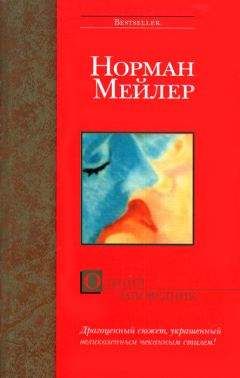— Альберт обратился за помощью к великим державам, — сказал кто-то.
Альберт! Это бельгийский король. Так он, значит, обратился за помощью? Бельгия! А разве ей не даны гарантии нейтралитета, так же, как Швейцарии? Не сделают же немцы такую глупость… Мы живем в цивилизованную эпоху договоры и все такое… Сомс поднялся. Что толку слушать этих джингоистов. Надо пойти позавтракать.
Но есть ему совсем не хотелось — очень было жарко. Может, и на события в Европе повлияла жара? А что, очень просто. Посадить этих императоров и генералов на лед, они бы живо притихли. Он допивал стакан ячменного отвара, когда официант сказал члену клуба, сидевшему за соседним столиком:
— Так я слышал, сэр.
— Боже милостивый! — охнул тот, вскакивая с места.
Сомс забыл о приличиях.
— Что вы слышали?
— Немцы вторглись в Бельгию, сэр.
Сомс поставил стакан на столик.
— Кто это вам сказал?
— Передали по телеграфу, сэр.
Сомс издал горлом звук такой низкий, что, казалось, он возник где-то в глубине его штиблет. Нужно подумать. Но думать здесь, в клубе, нет никакой возможности.
— Дайте счет, — сказал он.
Уплатив по счету, он, наперекор клубным правилам и долголетней привычке, добавил шиллинг на чай: у него было смутное чувство, что он чем-то особенно обязан этому лакею. И тут ему захотелось домой; он доехал до вокзала на такси, а в поезде всю дорогу то читал вечернюю газету, то невидящим взглядом смотрел в окно.
Дома он ничего не сказал — никому ничего не сказал о том, что узнал в клубе, — его целиком поглотил неслышный и мучительный процесс внутреннего приспособления. Сейчас этот Грей[16] — серьезный человек, самый из них порядочный, — должно быть, уже начал свою речь в палате общин. Что он им там говорит? И как они принимают его слова? Усевшись в свою лодку, Сомс прислушивался к воркованью лесных горлиц в зеленом покое безоблачного дня. Ему хотелось побыть одному. Англия! Говорят, английский флот в боевой готовности.
Дальше этого его мысль отказывалась проникать. Близость воды почему-то успокаивала его, словно река могла донести его веру в английский флот до самого моря, туда, где качался на волнах этот флот — гордость и защита Англии. Он свесил руку за борт, и зеленоватая вода побежала у него между пальцами. Смотри-ка! Вон зимородок — ярко-синяя вспышка в тростниках. Сомс что-то давно его не видел. Не хотел бы он быть на месте этого Грея. Говорят, он любит птиц и рыбную ловлю. Что он им там говорит под сенью Большого Бена? Он всегда был джентльменом, что же ему и сказать, как не то, что Англия сдержит свое слово? И опять из горла у Сомса вырвался звук, возникший, казалось, в самых подошвах. Под этим, в сущности, как будто и нельзя не подписаться. А дальше что? Все эти мирные луга, все семьи по всей стране, курс ценных бумаг — все пойдет прахом! А старому дяде Тимоти девяносто четыре года. Нужно распорядиться, чтобы они там помалкивали. К счастью, после смерти тети Эстер в доме совсем не бывало газет; а когда Тимоти в 1910 году прочел про палату лордов[17], он так расстроился, что и «Таймс» перестал выписывать. «А мои картины!» — подумал Сомс. Да, и гувернантка у Флёр — немка: по-французски Флёр с раннего детства говорила с матерью. Скорее всего, Аннет захочет ее уволить. И куда ей тогда деваться? Если будет война, никто не захочет взять в дом немку. Пролетела стрекоза. Сомс проследил за ней взглядом, чувствуя глубоко в душе обиду и боль. Такое замечательное лето — теплое, ясное, так нет же, чем бы радоваться, заварили во всем мире эту чертову кашу. Ведь это… это может бог знает до чего дойти! Он встал в лодке и, работая шестом, медленно переправился на другой берег. Стала видна церковь. Сам он никогда не ходил в церковь, но полагал, что люди что-то в этом находят. А вот теперь начнут по всей Европе палить друг в друга из пушек. Что скажут тогда священники? А вероятно, ничего не скажут, чудной они народ. Семь часов! В палате, должно быть, все уже кончилось. И он стал медленно переправляться обратно. Его обволакивали запахи — пахло цветущими липами и таволгой, шиповником и жимолостью, да и травой, отдающей дневную жару. Не хотелось уходить от воды, но сырость, сырость!
Матери тех юношей, что там, в Европе, уходят на войну… совсем мальчишки, новобранцы — в России и в Австрии, в Германии и во Франции… и ничего-то они в этом не понимают, и на все им наплевать. Ну и дела! А здесь, конечно, многие пойдут добровольцами, если… если… Только трудно себе представить, какую пользу может принести Англия, кроме как на море.
Он вылез из лодки и медленно пошел мимо дома к воротам. Жара спала, свет померк, проглянули звезды, воздух попахивал пылью. Сомс стоял у ворот, точно пеликан, который ждет сам не зная чего. Со стороны Рэдинга застрекотал мотоцикл. Сидевший за рулем мужчина в пыльном комбинезоне крикнул Сомсу: «Парламент! Вступаем в войну!» — и прострекотал дальше. Сомс вытянул вперед руку жестом слепого.
Вступаем в войну? Он с утра почти ничего не ел, светили звезды, и воображение его, которое он обычно держал в узде, заработало рывками, на ощупь. Рваные, беспорядочные видения войны неслись одно за другим перед его внутренним взором, как дикие гуси над пустыней, над морем, из тьмы в другую тьму — сознание профана, и к тому же профана, мыслившего категориями мира всю свою жизнь, долгую жизнь. Надо же, чтобы такое случилось с человеком в шестьдесят лет! Могли бы подождать, пока он станет такой, как Тимоти. Тревога снедала его. Говорят, Китченер вернулся из Египта. И то хорошо. Физиономия у него свирепая, глаза глядят куда-то мимо тебя, как у льва в Зоологическом саду; но выпутаться он всегда умел. И вдруг Сомсу вспомнилось, что он перечувствовал во время «черной недели», в бурскую войну, пустяковая была заварушка по сравнению с нынешней. Да, и есть еще старик Робертс — ну, тот, наверно, уже слишком стар.
«Но как знать, — подумал он, — может, нам еще и не придется воевать на суше. Да и немцы, может, еще одумаются, когда узнают, что Англия решила воевать. И есть Россия — у нее людей больше, чем у всех остальных, вместе взятых. Паровой каток — так ее называют, только хватит ли пару? Япония-то ее победила.
Ну что ж, — и при этой мысли он испытал престранное чувство: одновременно гордость и скорбь. — Если уж мы начнем, так будем держаться до конца». Интуитивная уверенность в этом наполнила его и страхом и глубоким удовлетворением. Надо полагать, сейчас повсюду распевают «Правь, Британия!». А что будет дальше, об этом никто не думает, не любят люди шевелить мозгами!
Звезды горели теперь в иссиня-черном небе. По всей Европе передвигаются солдаты и орудия, по всем морям несутся корабли. И эта тишина — только затишье перед бурей. Ненадолго она. Так и есть: вон уже поют где-то на дороге, наверно, пьяные. Напев, слова — все незнакомое, пошлая какая-то песенка:
Долог путь до Типперэри,
Долог путь домой…
Прощай, Пикадилли, будь здоров, Лестер-сквер,
Долог, долог путь до Типперэри,
Но сердцем я навеки там.
При чем это здесь, скажите на милость? А теперь кричат ура. Услышали великую новость на каком-нибудь празднике — простонародье! Впрочем… сегодня и это — Англия, Англия! Ну что ж, время позднее, надо идти домой.
2
Молчание — как гнет решения, принятого скорее вслепую, чем сознательно, — давило Сомса весь тот вечер и на следующий день. Он прочел речь «этого Грея» и вместе со всей страной стал ждать того, что, как он чувствовал, не может последовать: ответа на ультиматум. Немцы отведали крови — из Бельгии они ни за что не уйдут.
Во второй половине дня, не в силах дольше выносить ни собственную мрачность, ни нервозное состояние Аннет, он пешком дошел до станции и уехал в город. На улицах было полно; народу, казалось, все прибывало. В клубе Знатоков он кое-как проглотил необычно поздний обед, застревавший в горле, и спустился вниз. Из своего кресла в амбразуре окна он смотрел на Сент-Джемс-стрит и на толпу, стремившуюся мимо к жизненному центру страны. Срок ультиматума, так ему сказали, истекает в одиннадцать часов. Эта тихая комната, для которой в течение целого столетия без войн подбирали мебель, обои и картины, равняясь на людей с хорошим вкусом, воплощала собою жизнь, какой он знал ее, жизнь Англии при Виктории и Эдуарде. Бурская война, а тем более другие мелкие войны в Ашанти[18], Афганистане, Судане, заморские экспедиции, дело профессиональных солдат — не нарушали душевного покоя «знатоков». Они продолжали жить по-прежнему, принимая эти события как досадную необходимость либо как аппетитные капли к утреннему завтраку. Но то огромное, что надвигалось теперь… да что говорить, судя по сегодняшним газетам, оно даже политических противников примирило. И Сомсу вспомнились стишки Льюиса Кэррола: