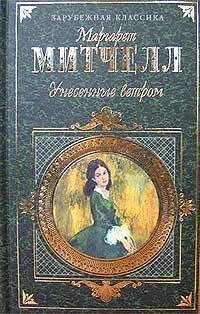Родилась она в середине той недели, когда Атланта жила в лихорадочном волнении и в воздухе чувствовалось приближение беды. Арестовали негра, похвалявшегося, что он изнасиловал белую женщину. Но прежде чем он предстал перед судом, на тюрьму налетел ку-клукс-клан и вздернул негра. Ку-клукс-клан решил избавить пока еще никому не известную жертву изнасилования от необходимости выступать в суде. Отец и брат пострадавшей готовы были застрелить ее, лишь бы она не появлялась перед судом и не признавалась в своем позоре. Поэтому линчевание негра казалось обитателям города единственным разумным выходом из положения — единственно возможным, в сущности, выходом. Однако это привело военные власти в ярость. Почему, собственно, женщина не может выступить в суде и публично дать показания?
Начались поголовные аресты: солдаты клялись, что сотрут ку-клукс-клан с лица земли, даже если им придется засадить в тюрьму всех белых обитателей Атланты. Негры, перепуганные, мрачные, поговаривали о том, что в отместку начнут жечь дома. По городу поползли слухи: если-де янки найдут виновных, они всех перевешают, а кроме того, негры готовят восстание против белых. Горожане сидели по домам, заперев двери и закрыв окна ставнями, мужчины забросили все дела, чтобы не оставлять жен и детей без защиты.
Скарлетт, измученная родами, лежала в постели и молча благодарила бога за то, что Эшли слишком благоразумен, чтобы принадлежать к ку-клукс-клану, а Фрэнк слишком стар и робок. Ведь это было бы ужасно — знать, что янки в любую минуту могут нагрянуть и арестовать их! Ну почему эти безмозглые молодые идиоты из ку-клукс-клана не могут сидеть спокойно — и так уж все плохо, зачем же еще больше бесить янки?! Да и девчонку-то эту, наверное, никто не насиловал. Скорее всего она просто испугалась по глупости, а теперь из-за нее столько народу может лишиться жизни.
В такой напряженной атмосфере, когда ты словно видишь, как огонь медленно подбирается по шнуру к пороховой бочке, и ждешь, что она вот-вот взорвется, Скарлетт быстро встала на ноги. Хорошее здоровье, помогшее ей перенести тяжелые дни в Таре, выручило ее и сейчас: через две недели после рождения Эллы-Лорины она уже могла сидеть в постели и злилась на свою бездеятельность. А через три недели встала и объявила, что хочет ехать на лесопилки. Работа на обеих была приостановлена, потому что и Хью и Эшли боялись оставлять свои семьи на целый день.
И тут грянул гром.
Фрэнк, чрезвычайно гордый своим отцовством, настолько осмелел, что запретил Скарлетт покидать дом, когда вокруг так неспокойно. Она бы и внимания не обратила на его запреты и все равно отправилась бы по своим делам, если бы он не поставил лошадь и двуколку в платную конюшню и не велел никому, кроме него, их давать. К тому же, пока Скарлетт была нездорова, он и Мамушка тщательно обыскали весь дом, нашли спрятанные ею деньги, и Фрэнк положил их в банк на свое имя, так что теперь Скарлетт не могла нанять даже бричку.
Скарлетт устроила страшный скандал, понося на все лады Фрэнка и Мамушку, потом принялась их упрашивать и, наконец, все утро проплакала, словно ребенок, раздосадованный тем, что ему чего-то не разрешают. Однако в ответ она слышала лишь: «Не надо так, лапочка! Вы же, деточка, нездоровы». И еще: «Мисс Скарлетт, если не перестанете так убиваться, у вас молоко свернется и у крошки заболит животик, это уж как пить дать».
Скарлетт в ярости ринулась через задний двор к Мелани и там излила душу, крича на весь свет, что пойдет пешком на лесопилки, и пусть все в Атланте узнают, какой негодяй у нее муж, и вообще она не позволит, чтобы с ней обращались, как с капризной глупой девчонкой. Она возьмет с собой пистолет и пристрелит всякого, кто посмеет ей угрожать. Она уже пристрелила одного и не без радости — да, да, именно не без радости — пристрелит другого. Да она…
Мелани, боявшаяся выйти даже на собственное крыльцо, была совершенно потрясена, слушая такие речи.
— Ах, разве можно так собой рисковать! Я просто умру, если с тобой что-нибудь случится! Прошу тебя!
— А я пойду! Пойду! Пойду!..
Мелани посмотрела на Скарлетт и поняла, что это не истерика женщины, еще не пришедшей в себя после рождения ребенка. Она увидела на лице Скарлетт ту же упрямую, необоримую решимость, какая часто появлялась на лице Джералда О'Хара, когда он что-то твердо решил. Она обхватила Скарлетт руками за талию и крепко прижала к себе.
— Это я виновата, что не такая храбрая, как ты, и держу Эшли дома, тогда как он должен быть на лесопилке. О господи! До чего же я никчемная! Дорогая моя, я скажу Эшли, что нисколечко не боюсь, я приду к тебе и побуду с тобой и с тетей Питти, а он пусть едет на работу и…
Даже самой себе Скарлетт не призналась бы, что не считает Эшли способным со всем управиться, и потому воскликнула:
— Я этого не допущу! Какой от Эшли прок, если он будет все время тревожиться за вас? Просто все такие противные! Даже дядюшка Питер отказывается ехать со мной! Но мне плевать! Я отправлюсь одна. Весь путь пройду пешком и где-нибудь да наберу команду черномазых…
— Ах, нет! Ты не должна этого делать! С тобой может случиться беда. Говорят, что в бараках на Декейтерской дороге полно плохих негров, а ведь тебе придется мимо них идти. Дай-ка подумать… Дорогая моя, обещай, что ничего сегодня не предпримешь, а я пока подумаю. Обещай, что пойдешь сейчас домой и ляжешь. Ты даже осунулась. Обещай же.
Поскольку Скарлетт действительно выдохлась после приступа злости, она сквозь зубы дала Мелани обещание и отправилась домой, а дома высокомерно отклонила все попытки восстановить мир.
К вечеру странная личность, прихрамывая, прошла сквозь живую изгородь, окружавшую дом Мелани, и заковыляла по двору тети Питти. Человек этот был явно из «оборвышей» — как выражались Мамушка и Дилси, — которых мисс Мелли подбирает на улице и пускает к себе в подвал.
А в подвале у Мелани было три комнаты, где раньше размещались слуги и хранилось вино. Теперь Дилси занимала одну из этих комнат, а в двух других вечно обретались какие-то несчастные, жалкие временные жильцы. Никто, кроме Мелани, не знал, откуда они пришли и куда направляются, как никто не знал и того, где она их подбирает. Возможно, негритянки были правы и она действительно подбирала их на улице. Так или иначе, но подобно тому, как все видные или сравнительно видные люди стекались в ее маленькую гостиную, люди обездоленные находили путь в ее подвал, где их кормили, давали ночлег и отправляли в путь со свертком еды. Обычно обитателями этих комнаток были бывшие солдаты-конфедераты, никчемные, неграмотные, бездомные, бессемейные, скитавшиеся по стране в надежде найти работу.
Нередко проводили здесь ночь и почерневшие, исхудалые деревенские женщины с целым выводком светловолосых тихих ребятишек, — женщины, овдовевшие во время войны, лишившиеся своих ферм, бродившие по стране в поисках потерянных, разбросанных по миру родственников. Иной раз соседей возмущало присутствие чужеземцев, едва говоривших по-английски, а то и вовсе не говоривших, — чужеземцев, которых привлекли на Юг цветистые рассказы о том, что здесь легко можно нажить состояние. А как-то раз у Мелани ночевал даже республиканец. Во всяком случае. Мамушка утверждала, что это республиканец, она-де чует республиканца на расстоянии, совсем как лошадь — змею, но никто ей не поверил, поскольку есть же предел даже состраданию Мелани. Во всяком случае, все надеялись, что это так.
«Да, — подумала Скарлетт, сидевшая на боковой веранде в лучах бледного ноябрьского солнца с младенцем на руках, — этот хромоногий, конечно же, из тех несчастненьких, которых пригревает Мелани. И ведь не прикидывается — в самом деле хромой!»
Человек, шедший через задний двор, припадал, как Уилл Бентин, на деревянную ногу. Это был высокий худой старик с розовой грязной лысиной и тронутой сединою бородой, такой длинной, что он мог бы засунуть ее за пояс. Судя по его жесткому, изборожденному морщинами лицу, ему перевалило за шестьдесят, но это никак не сказалось на его фигуре. Он был долговязый, нескладный, но, несмотря на деревянную ногу, передвигался быстро, как змея.
Поднявшись по ступенькам веранды, он направился к Скарлетт, но еще прежде, чем он открыл рот и Скарлетт услышала его гнусавый выговор и картавое «р», необычное для обитателя равнин, она уже поняла, что он — из горных краев. Несмотря на грязную, рваную одежду, в нем была, как у большинства горцев, этакая молчаливая непреклонная гордость, исключающая вольности и не терпящая глупостей. Борода у него была в подтеках табачной жвачки, и большой комок табака, засунутый за щеку, перекашивал лицо. Нос был тонкий, крючковатый, брови густые и кустистые, волосы торчали даже из ушей, отчего уши выглядели пушистыми, как у рыси. Одна глазница была пустая, а от нее через щеку шел шрам, наискось пересекая бороду. Другой глаз был маленький, светлый, холодный — он безжалостно, не мигая смотрел на мир. За поясом у пришельца был заткнут большой пистолет, а из-за голенища потрепанного сапога торчала рукоятка охотничьего ножа.