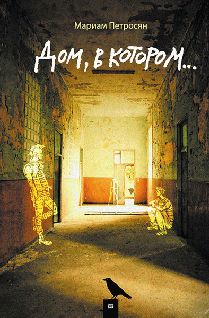— Эй, — говорю слабым голосом. — Который сейчас час?
Македонский роняет веник и смотрит на меня с ужасом.
— Помирает, должно быть, — говорит ему Лэри, сокрушенно качая перевязанной башкой.
Мак ахает и выбегает прочь, даже не захлопнув за собой дверь. Зря я его так напугал. Можно было просто перечислить все, что у меня болит. И я уже сожалею о сказанном, хоть и приятно вызывать в людях такие бурные эмоции.
— Что же ты, в первый день Закона? — эгоистично упрекает меня Лэри.
— Дату смерти не выбирают, — говорю.
У наших очень разный подход к лечению одних и тех же болезней, но каждый считает, что его метод самый лучший. Поэтому сначала Горбач усердно давит на моих костях какие-то точки по методу древних китайцев. Потом, по методу Сфинкса, меня запихивают в такую горячую ванну, что вполне можно свариться заживо. Вытащив, натягивают на голое тело свитер, натирают под ним спину чем-то жгучим, плюс к тому шерстяные носки и два одеяла и шарф, под которым — компресс из спирта.
На этой стадии лечения я уже не разбираю где чей метод и пробую все с себя содрать. Но меня крепко держат. Слепой достает из каких-то тайных запасов банку меда — совсем маленькую — и торжественно демонстрирует ее мне, как будто я еще в состоянии на такое реагировать. Дальше мне скармливают мед, а чтобы запить, дают молоко с маслом. Приходится все это терпеть, поглощать мед и запивать его молочной рекой, пока я не начинаю плавиться заживо во всем, что на меня накрутили, потеть молоком и кашлять сливками.
Бедный я, признающий только один метод лечения больных — нежное обращение.
Сфинкс читает мне вслух отрывки из «Махабхараты», Горбач играет на флейте, Лэри давит в миске лимоны, а Слепой следит, чтобы я не вывернулся, и от всех этих процедур я так устаю, что умудряюсь уснуть прямо в огненно-медовом коконе, и невысказанными остаются все замечания о палачах и пытальщиках, которые я собирался высказать стае, и они щекочут меня всю ночь напролет, проникая в потливые сны.
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙСнарки в общем безвредны.
Но есть среди них…
(Тут оратор немного смутился.)
Есть и БУДЖУМЫ…
Булочник тихо поник
И без чувств на траву повалился.
Утром от ангины не остается и следа. От меня тоже почти ничего не остается. Одни кости и сладкий сироп. На медосмотре отмечают мой бодрый вид и молочный запах. При упоминании молока начинает тошнить, но Пауки, к счастью, этого не замечают. Для человека, побывавшего под пытками, я выгляжу совсем неплохо.
Дни осмотров всегда немного нервные, потому что никогда не знаешь, что выкопают в твоем организме дотошные Членистоногие. Когда оказывается, что ничего они в тебе ничего не обнаружили, начинаешь волноваться за других, а потом весь остаток дня отдыхаешь от волнений. Поэтому дни эти тихие. Настороженные, а потом усталые.
Профильтрованный через восемь кабинетов и кучу Пауков, все еще в центре общего внимания как самое слабое звено в стайной цепочке, я валяюсь в одеялах с подарком Горбача: пакетом грецких орехов, колю их, заедаю изюмом, и уже начинаю думать, что это совсем неплохо — быть выздоравливающим. Другое дело, что в коридор меня не пускают, так что я не могу поглядеть на девушек и понюхать Новый Закон в действии. Сфинкс говорит, что ничего интересного там не происходит, но я ему не верю, потому что сидя в спальне он никак не может знать, что происходит и чего не происходит в других местах. Еще очень хочется поглядеть на своего дракона, которого я толком не видел, — но и завтрак, и обед мне подают в постель, а Сфинкс, который меня стережет, тоже ест не сходя с поста. Остаются орехи и изюм. Которые понемногу заканчиваются.
— Будешь ворчать — приведу в гости Длинную Габи, — грозится Сфинкс. — Будет тебе Новый Закон во всей своей неповторимой красе.
— Чашечку кофе, пожалуйста, — говорю я Македонскому, а Сфинксу отвечаю: — Врешь ты все. Слабо тебе ее привести.
— Ты меня не провоцируй, — зловеще предупреждает он.
Но это и не нужно, потому что Длинная приходит сама. Без всяких с нашей стороны приглашений. Хлопает дверью и вплывает жирафьей походкой. Плюхается на кровать Македонского, закинув ногу на ногу, и хрипит нам:
— Ну привет, чуваки…
Юбка на ней еле заметная и видны резинки на черных чулках, а над ними — полоска белой кожи. Ноги вообще-то красивые. Есть чем любоваться, в отличие от лица. Черный, сняв очки, смотрит на них квадратными глазами. На ноги, потом на Сфинкса.
— Это что еще? — спрашивает он.
— Это я, дорогуша, — хрипит Габи. — А ты как думал?
Черный темнеет лицом. История запертой двери до него так и не дошла, и теперь он воображает что-то интересное, но не совсем то, что на самом деле. Швыряет книгу и тычет пальцем в Сфинкса:
— Это ты ее позвал!
— Разумеется нет, Черный, — оскорблено вздыхает Сфинкс. — Странное у тебя обо мне мнение.
— Тогда кто? Это ведь ты про нее сейчас говорил.
— Это была шутка. И вообще, что ты возмущаешься? Новый Закон принят. Кто кого хочет, того и приглашает.
— Точно, — поддакивает Габи, закуривая. — Да ты не кипятись, парень. Глядишь, придет и твой черед.
— Кто?! — орет Черный, сдирая с ушей очки. — Кто тебя позвал?
— Слепой, — Габи подмигивает Черному. — Начальник твоего начальника, если я еще не разучилась считать.
Черный садится обратно. Сидит оцепенело, потом выдергивает из-под себя книгу и утыкается в нее. Совсем не читающим взглядом. А Габи закуривает. Я тихо выковыриваю орехи из скорлупок. Очень интересная ситуация.
На вежливые замечания Сфинкса о погоде и учителях, Длинная весело похрюкивает и болтает ногами, на которые трудно не смотреть. Я себя не сдерживаю и смотрю. Сфинкс тоже. Горбач и Македонский предпочитают потолок. Наконец Габи надоедает сидеть без дела, она встает и начинает слоняться по комнате.
— Это у вас чего? А это? Хорошо живете…
Грудь на стол, задом к нам, и пыхтит над пластиночными рядами:
— Вот это клевая музычка. Я ее, вроде бы, слышала. Зашибись, что за песенка там, на второй стороне, вот уж не знала, что вам такие нравятся.
Горбач бледнеет и вытягивает шею. Мне тоже становится слегка не по себе, когда она начинает вытряхивать диски из конвертов и рассматривать их, оставляя с каждой стороны по полсотни отпечатков.
— Пылющие они у вас, — говорит Длинная. — Совсем не чищенные. Нельзя так… — Достает платок, плюет на него…
— Стоп! — орет Сфинкс вскакивая. — Замри, сучка!
Вскочивший одновременно с ним Горбач падает обратно на кровать. И вытирает пот с лица.
— Хочешь орешков? — вежливо предлагаю я Длинной, которая честно стоит замерев, как велел ей Сфинкс, и, наверное, размышляет, стоит ли обижаться.
— В зубах застревают, — ворчит она. Но от стола все же немножко отодвигается. — Нервные вы какие-то. Чуть что — в крик. Заикой можно стать.
— Так день осмотра, — объясняю я. — Все злые. Это такая традиция, можно сказать.
— Ага, — Длинная наваливается на спинку кровати и свешивается в мою сторону. — Меня вот тоже осматривали. Ну и что? Мне это по фигу. Осмотров я ихних не видела, что ли? Вот помню, как-то раз меня изнасиловали…
Давлюсь орехом и выкашливаю его на одеяло. Габи заботливо лупит меня по спине кулаком. Чтобы дотянуться, она уж совсем перевесилась, и мне видно много всего в вырезе ее блузки. Кашель от этого только усиливается. Практически уже задыхаюсь.
— Ух, бедняжка, — вздыхает Длинная. — Болеешь, да? Ничего. Бывает. Я вот тоже как-то раз болела…
— Ну хватит, — говорит Черный и встает. — Пойду прогуляюсь. Всему, в конце концов, есть предел! — Он выходит, громыхнув дверью так, что все вздрагивают.
— Про чего это он? — спрашивает Габи.
— Так, неважно, — сорваным голосом отвечает Сфинкс. — Дела…
— Наверно, с книжкой в сортир пошел, — фыркает Длинная. — Знаю я эту породу. Очкастых. А ты чего хрипишь? Тоже как бы заболел?
— Голос сорвал.
— Ну? — удивляется Длинная. — Не хило же ты крикнул.
— Точно, — соглашается Сфинкс. — Весьма не хило.
Габи отлипает от спинки, и кровать облегченно скрипит. Промаргиваюсь и ловлю ее в фокус. Она бредет к двери.
— Пойду, пожалуй. Мир погляжу. Слепому привет. И этому вашему книгочею тоже. А сами не болейте.
— Передадим, — обещаю я. — Ты заходи, не стесняйся.
— Я не из стеснительных, — хрюкает Габи. — Да ты, небось, и сам уже это просек.
Прощальный оскал в фиолетовой рамке помады — и она исчезает. В воздухе душный парфюмерный дух. Задумчиво глотаю последний орех и сгребаю в кучку скорлупки.
— Как ты сказал? Заходи, не стесняйся? — интересуется Горбач. — Я тебе этих твоих слов не забуду, Табаки.