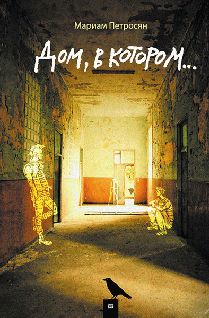Я дарил им тайные обрывки, ошметки чудес — то, что можно передать незаметно, спрятать в кармане и сделать вид, что там ничего не было, вообще ничего. Это у меня получалось. До тех самых пор, пока один из них не почуял мою тайну. Это было неизбежно. У них хороший нюх, не испорченный Ящиками и многолюдным наружным дурманом. А я был неосторожен. Маленький Шакал знал, что… Македонский не такой, как все. И Слепой знал. А Волк… Это было смешно и грустно. Его я опасался меньше всех, и, нарушая свое обещание, отдавал ему больше запретных чудес. Как ядовитого скорпиона, я снимал с него то жгучее, что чувствовал, когда проводил ладонью по его позвоночнику, и, пока я доносил его до раковины, оно успевало пустить в меня яд, и ладони распухали от чужой боли, но я был счастлив. Они научили меня благодарности и любви, и ничего другого я от них не ждал. Но я был глуп. Сфинкс знал, что говорил в тот первый день. «Если хочешь остаться с нами, то никогда — слышишь? — никогда никаких чудес».
В душной, мягкостенной Клетке, двое всегда и близки, и одиноки. Слишком много часов пролетает в близости и в одиночестве, и… «Я же не дурак, Македонский, я же чувствую. Волки всегда такое чуют». И… «Черт возьми, ты что, не доверяешь мне? Разве мы не друзья?» Я должен был услышать это «черт возьми» и вспомнить рыбью кость, и беззубый рот, и седую гриву старого безумца, любителя говорить «черт возьми»; должен был вспомнить и запереться на миллион замков — ведь это было предупреждение — но я забыл прошлые жизни. Мой разум растопило тепло, лившееся из жизни этой. И я заговорил с ним, как когда-то со Сфинксом, отдавая ему в руки свою судьбу, Но он вовсе не был Сфинксом. Я понял это там же, в душной тесноте Клетки, когда он показал кривые клыки и сказал: «Ну, теперь ты мой!» Я угодил в капкан, но было уже слишком поздно. Я опять сидел на цепи — не ангел, а, скорее, черт, потому что только это ему и было нужно, а я всегда превращался в то, что нужно другим. За одним-единственным исключением. «Эй, не распускай сопли, я ведь многого от тебя не потребую». Я плакал и обнимал его колени, я ползал у его ног, как последний бритоголовый, и кричал от боли очередного перевоплощения. Ведь это очень больно — меняться. «Да что ты развылся, как будто тебя режут, оставь в покое мои ноги, псих несчастный!» Я забился в мягкий угол, но он вытащил меня оттуда, долго тряс и лупил по щекам, с холодным любопытством глядя мне в глаза. Я знал, чего он хочет. Заветные желания Волка ни для кого не были тайной. «Я не хочу его смерти, понимаешь? Я не убийца. Пусть просто уйдет. Сбежит из Дома в наружность и никогда не вернется, ладно?» Стены-подушки в цветочек, белый свет, его потное лицо, и злые руки… И… «Да что ты ведешь себя, как истеричка? Чего я такого страшного от тебя потребовал?» То, что он требовал, было ужасно, но я не сумел объяснить почему. Лучше убить человека, чем сделать его рабом своих желаний. Волк этого не знал. Подобают ли черту проклятия? Конечно. Но я не сделал ничего. До последней минуты, пока это было возможно, я старался быть Македонским. Зная, что завтра все будет кончено. Серый Дом узнает правду и меня раздавят жаждущие чудес. Македонского больше не будет. Будет кто-то другой и будет другой дом, без Сфинкса, без Табаки, где я буду совсем один, и где меня, как выпотрошенное насекомое, распластанного на стекле, будут рассматривать сквозь толстые линзы микроскопа. «Я все расскажу про тебя, чудотворец, каждый Фазан узнает, каждая шавка! Тебя разнесут в клочья, ты понял?» Я отполз и лег на пол, чувствуя приближение тока, покалывание в ладонях и жар, и дрожь в стенах. Мне уже было все равно, что будет завтра. В самой глубине сердца я прятал свой отказ — свое падение из окна или с крыши, лучше с крыши — и порванную цепь, на которую меня больше никто не посадит, во веки веков аминь… Потом пришло освобождение, я вылетел из себя с криком, и унесся прочь, через стены и потолки, через дождь и тучи — прочь, в жгучую космическую темноту.
Два дня он меня не трогал и ни о чем не напоминал. Но я устал жить в страхе. Все вышло само собой. Ночью мое проклятие проткнуло его, и он не проснулся. А я убежал от своего греха, заперся в ванной, молился и плакал. А потом пошел искать дорогу на чердак. Но ни чердак, ни дороги к нему я не нашел. Тогда я спустился во двор и взобрался на крышу по пожарной лестнице. Я стоял там, у самого края, когда рассвел — , и мир стал бирюзово-золотым, и стрижи пронеслись с радостными криками — а я стоял, и не мог заставить себя прыгнуть, это оказалось страшнее, чем я думал, намного страшнее. Я опух от слез, я шатался, и просил ветер помочь мне, но как назло ветер был слабенький. Я стоял долго, солнце совсем уже поднялось, а я никак не мог себя заставить. Потом услышал жуткий вопль: мне показалось, что это кричит Сфинкс — и ноги сами толкнули меня. Я прыгнул, но поскользнулся, чиркнул ногой по закругленному железному листу и повис на руках. Разжать руки оказалось еще невозможнее, чем прыгнуть. Я висел и плакал, и меня ласкал ветер. Наконец подтянулся и лег грудью на край. Ладони горели и кровоточили, по ноге что-то стекало, кеда начала промокать. Я уже понял, что я трус и не прыгну. Лежал и ненавидел себя, край крыши втыкался мне под ребра, и солнце пекло. Меня увидел кто-то из девчонок из окна в их корпусе, я услышал еще один крик и залез на крышу целиком. Но встать и спуститься не смог. Так и лежал, пока два белых длинноруких Паука не утащили меня вниз.
Позже я попробовал еще раз, по-другому, но и во второй раз не удалось… В Могильнике меня навестил Слепой. Он пришел в безразмерном белом халате, в котором таких Слепых поместилось бы еще двое, уселся на кровать по-турецки и стал слушать мое молчание. Долго. Потом спросил: зачем? «На мне великий грех, — сказал я. — Его не искупить». Волк отучил меня доверять им. И я ждал. Что скажет этот, затаившийся в себе? Не милый, каким когда-то казался Волк, совсем наоборот. От такого можно ждать чего угодно. Он мог обернуться Сфинксом, которому я дал обещание, и нарушил его: «если хочешь оставаться с нами»… Тогда мне пришлось бы уйти. Мог обернуться Волком и сделать из меня оружие. Я не сказал, кого мне было велено навеки посадить на цепь за порогом Дома. Он мог решить, что обязан мне, а этого я не хотел. «Возвращайся, — сказал он. Никто не узнает». «Почему? — спросил я. И что взамен?» «Дурак», — ответил он. И ушел.
Я вернулся. Время течет, мой грех по-прежнему со мной, и я ничем его не искуплю. Так будет всегда, пока я жив. Многие призраки проходят сквозь стены и сквозь меня, один из них является мне в темноте и показывает клыки. Он на подоконнике, когда я отдергиваю занавеску, он в душевых кабинках, он в ванной, когда я хочу туда влезть, смотрит из-под воды горящими глазами. Я почти привык к нему и больше не срываюсь при встречах. Чтобы не видеть снов, я ложусь позже и встаю раньше, чем прежде. Потому что в снах он может делать со мной все что угодно. Я устал от него, а он устал от меня, но избавиться друг от друга мы не можем. Таблетки помогают, но ненадолго.
Утром я спускаюсь во двор и кормлю собак — тех, что бегают в предрассветные часы по ту сторону сетки, в наружности. Они уже знают и ждут. Половина моего ужина и еще хлеб. Они рассказывают о своей бродячей жизни, а я рассказываю о своей. Они живут в стаях, я тоже. Нам есть о чем поговорить. Только я никогда не спрашиваю, знают ли они, что такое грех. Но мне кажется, они знают. Иногда, очень редко, я творю для них чудеса: заживляю порезы на лапах, наращиваю шерсть на ожогах или сотворяю фантом Большой Белой Суки, немножко похожий на северного медведя. Им нравится гонять его вдоль сетки. Потом мы расходимся. Они убегают по своим драчливым делам, я ухожу в Дом. Бывает, в коридоре я встречаю Слепого, который возвращается с ночной прогулки. Чаще это случается по пути в двор, но иногда и на обратном пути. Мне кажется, если выйти среди ночи, то он будет в миллиарде обличий и повсюду, совсем как мой призрак. Но ночью я не выхожу, я боюсь темноты.
Я боюсь темноты, боюсь своих снов, боюсь оставаться один и входить в пустые помещения. Но больше всего я боюсь попасть в Клетку один. Если это когда-нибудь случится, я, наверное, там и останусь. А может, не выдержу, вырвусь оттуда как-нибудь не по-человечески, и это будет еще хуже. Не знаю, буду ли я гореть в аду. Скорее да, чем нет. Если он все-таки существует. Хотя я надеюсь, что это не так.
ДЕНЬ ТРЕТИЙИ катали его, щекотали его,
Натирали виски винегретом,
Тормошили, будили, в себя приводили
Повидлом и добрым советом.
Когда я продираю глаза, утро уже стало днем. Гостей нет, и следов от них — тоже. Македонский выметает осколки и окурки. Лэри сидит понуро, с повязанной полотенцем головой. В глазах у меня колючки, в горле — скребучие слюни.
— Эй, — говорю слабым голосом. — Который сейчас час?