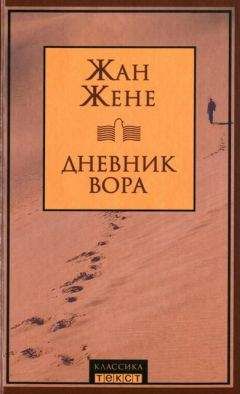— Да… Я оберегаю тебя.
Поцеловав мои закрытые глаза, он покидает мою постель. Я слышу, как он закрывает дверь. Под моими веками мелькают картинки: в светлой воде носятся серые очень юркие насекомые, которые водятся на илистом дне некоторых водоемов. Они бегают в светлой воде и в тени моих глаз, дно которых покрыто илом.
Странно, что столь мускулистое тело так легко расплавляется моим телом. Он ходит по улице, вихляя плечами: его твердость тает как снег. То, что раньше было острыми углами, осколками, смягчилось — все, кроме глаз, сверкающих среди рыхлых сугробов. Эта машина, предназначенная для кулачных боев, ударов башкой и пинков, вытягивается, развертывается, распрямляется и доказывает, к моему изумлению, что всегда была воплощенной кротостью, сжатой, скованной, стянутой, разбухшей, свернувшейся клубком, но я понимаю, что эта кротость, эта гибкая покорность, благодаря моей нежности, вмиг обернется яростной злобой, коль скоро она утратит повод оставаться собой, коль скоро уйдет моя нежность, если, например, я брошу парнишку, если я отниму у слабости право обитать в этом дивном теле. Я вижу, что может вызвать подобный взрыв. Какую боль причиняют такие озарения! Его кротость снова сожмется, съежится, свернется клубком, снова станет грозным оружием.
— Если ты меня бросишь, я сделаюсь бешеным, — сказал он мне. — Я буду последней мразью.
Подчас я боюсь, что его кротость выйдет из повиновения моей любви. Следует вести себя осмотрительно и быстро воспользоваться этим подарком судьбы. По вечерам, когда Люсьен сжимает меня в объятиях и осыпает мое лицо поцелуями, на мое тело нисходит печаль. Оно как бы подергивается дымкой, окутывается траурной тенью. Мои глаза смотрят мне в душу. Брошу ли я это дитя на произвол судьбы? Позволю ли я ему оторваться от моего ствола? Упасть и разбиться в лепешку?
— Моя любовь всегда грустна.
— Правда, когда я тебя целую, ты становишься грустным. Я это заметил.
— Тебе это неприятно?
— Нет, ерунда. Зато я веселюсь за двоих.
Я бормочу про себя:
— Я люблю тебя… Я тебя люблю… Я люблю тебя…
Возможно, говорю я себе, в конце концов любовь выйдет из меня вместе с этими очищающими душу словами, подобно тому, как молоко или слабительное выводит из тела яд. Я держу его руку в своей руке. Кончики моих пальцев не хотят расставаться с кончиками его пальцев. Наконец я отнимаю руку: я все так же люблю его. Мое тело окутано прежней грустью. Таким я увидел его впервые: Люсьен шел из Сюке босиком. Босиком он шагал по городу, босиком заходил в кино. Он был одет в безупречно элегантный костюм: голубые полотняные брюки и тельняшку в бело-голубую полоску с засученными до плеч рукавами. Меня так и подмывает сказать, что он был обут в босые ноги, поскольку они казались мне тщательно подобранными деталями, дополнявшими его красоту. Меня всегда восхищали его хладнокровие и властный вид, который придавала ему в суетливой толпе простая приветливая уверенность в своей красоте, элегантности, молодости, силе и грации. Он был средоточием переполнявшего его счастья, и он показался мне значительным, когда посмотрел на меня с улыбкой.
У араукарии красные плотные и мохнатые, довольно мясистые, буроватые листья. Эти деревья сажают на кладбищах, они окружают могилы давно почивших рыбаков, которые испокон веков гуляли по этому дикому и ласковому берегу. Они подставляли солнцу и без того загорелые руки, волоча свои лодки и сети. В ту пору они носили одежду, которая почти не изменилась: рубашка с большим вырезом и разноцветный платок, которым они повязывали свои темные курчавые головы. Их ноги были босы. Все они давно умерли. Деревья, все так же растущие в городских садах, воскрешают их в моей памяти. Стаи теней, в которые они превратились, продолжают шалить и произносить пылкие речи: я отрицаю их смерть. Не придумав лучшего способа воскресить рыбака, блиставшего молодостью в 1730 году, и вдохнуть в него новую силу, я то забирался в жару на скалы, то по вечерам восседал под сосной и заставлял его призрачный образ услаждать мою плоть. Общество какого-нибудь сорванца не всегда отвлекало меня от этих дум. Однажды вечером, смахнув с волос и куртки сухие листья, я застегнул штаны и спросил Боба:
— Ты знаешь типа по имени Люсьен?
— Да, а что?
— Ничего. Просто я им интересуюсь.
Парень и глазом не моргнул. Он стряхнул с себя сосновые иголки, слегка провел рукой по волосам, проверяя, не осталось ли там кусочков мха, и отошел от дерева, чтобы посмотреть, не забрызгал ли он свои солдатские брюки.
— Что это за тип? — спросил я.
— Он? Так, шпана, встречался с мужиками из гестапо.
Я снова оказался в центре пьянящего вихря. Французское гестапо сочетало в себе два прелестных явления: предательство и воровство. Если бы к этому добавился гомосексуализм, оно стало бы сиятельно безупречным. Гестапо было наделено тремя добродетелями, которые я возвожу в ранг божественных доблестей, способных придать любому телу твердость тела Люсьена. В чем можно было его упрекнуть? Гестапо находилось за гранью мира. Оно предавало (предать в смысле нарушить законы любви), грабило, устраивало погромы. Увенчанное педерастией, оно отлучало себя от мира. Стало быть, оно пребывало в нетленном одиночестве.
— Ты уверен в своих словах?
Боб смерил меня взглядом. Тряхнув головой, он откинул со лба свои черные кудри. Мы шагали рядом во тьме.
— Я же тебе говорю.
Я замолчал, чутко прислушиваясь к себе. На мою душу нахлынули волны, принесенные словом «гестапо». По этим волнам шагал Люсьен. Они несли его грациозные ноги и мускулистое гибкое тело, шею и голову, увенчанную блестящими волосами. Я приходил в восторг от мысли, что в недрах этого дворца из человеческой плоти царит идеальное зло, создающее идеальное равновесие конечностей, торса, света и тени. Этот дворец медленно погружался в воду, скользил по волнам моря, бьющегося о берег, по которому мы ступали, и, мало-помалу обретая текучесть, растворился в море. Что за покой и нежность наполняли меня при виде столь бесценного одиночества в столь богатом ларце! Я хотел бы забыться в бессонном сне, заключить эти волны в объятия. Призрак мира, неба, дороги, деревьев проникал в меня через глаза и пускал во мне корни.
— А ты, ты никогда не думал туда поступить, чтобы воровать?
Боб слегка повернул ко мне голову. Его лицо, то светлевшее, то мрачневшее, оставалось невозмутимым.
— Ты сбрендил. Где бы я теперь был? На каторге, как другие!
На каторге или на том свете, как главари этой организации: Лаффон, Бони, Клавье, Паньон, Лабуссьер. Стремясь запастись аргументами в защиту предательства, я вырезал и сохранил кусок газеты с их фотографиями. Итак, я всегда приписывал им сияющий вид. Морис Пилорж со своим ясным, как утро, лицом был насквозь фальшив. Он лгал на каждом шагу, лгал мне в глаза и с неизменной улыбкой предавал своих друзей. Я же любил его. Узнав о том, что он убил Эскудеро, я был сражен наповал, ибо трагедия снова почти вплотную подобралась ко мне; она вошла в мою жизнь, прославляя меня, придавая мне новую значимость (шпана говорит: «Ну, он теперь с нами и срать не сядет»!). Я сотворил из него кумира, которому, возможно, все еще поклоняюсь спустя восемь лет, как его обезглавили. За тот промежуток времени, что отделяет убийство от смерти, Пилорж превзошел меня в величии. Когда я смог наконец вымолвить «бедный парень», думая о его загубленной жизни и разлагающемся теле, я полюбил его. Тогда же я избрал его не как идеал, а как поддержку в пути на какое-то небо, где я надеюсь с ним встретиться. (Я не уточняю: «встретиться снова».)
Я видел перед собой тоскливые (за исключением лица Лабуссьера), размягшие от бесконечных страхов и подлости лица. Бумага низкого качества, большой тираж и то, что их сфотографировали в невеселый момент, не играют им на руку. У них вид людей, угодивших в капкан. Тот, что они расставили сами для себя, — капкан собственных душ. На очень красивом снимке, запечатлевшем Вельпо Вайдманна в бинтах, раненного полицейским во время ареста, я также вижу зверя, который попал в западню, но в западню, устроенную людьми. Его личная правда не оборачивается против него, чтобы его изуродовать. На портрете Лаффона и портретах его друзей я заметил, да и теперь иногда вижу, собственное неприятие, отвращение к самим себе.
У настоящего предателя, предателя милостью Божьей, говорил я себе в такие минуты, не может быть двуличного вида.
Каждый из мужчин, о которых я повествую, изведал периоды взлета. То было время их блеска. Я был знаком с Лабуссьером и видел, как он разъезжал с любовницами в роскошных автомобилях. Он был уверен в себе и убежден в своей правоте, невозмутимо творя свое доходное дело доносчика. Ничто не терзало его.
«Угрызения совести, чувства, приносящие другим столько муки, которую выдают их лица, не тревожат невинную душу Люсьена», — говорю я себе.