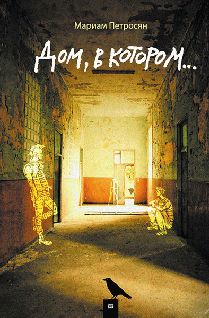Прекраснее драк старших только их развлечения. Пивные оргии, фантастические танцы, колясочные вальсы, и дикая, скрежещущая музыка, которую они непонятно где берут. Дохляки изо всех сил таращились в низкие окошки и уверяли друг друга, что им что-то видно, хотя кроме сменявшихся цветов ничего разглядеть было нельзя. Оставалось только глохнуть, слепнуть и умирать от зависти. Они лежали, терпеливо уткнувшись носами в холодную подвальную решетку, моргали от вспышек, и им казалось, что они и вправду что-то видят.
Лежа между Сиамцем и Фокусником Кузнечик глотал цвета оранжевый, зеленый, белый, синий… и воющую музыку. Он ничего не видел, но с каждым всхлипом высокой ноты думал, что вот сейчас, под вой и стон этого прекрасного шабаша, рассыпая искры и дико хохоча, вылетит из подвального окна старшеклассница на метле. Конечно же, это будет Ведьма…
«ДАВАЙ! СКОРЕЕ!» — взвизгнула песня. …пробьет дыру в стекле, а за ней и в дыру за ней вылетят и все остальные: спланируют вровень с землей, а потом взмоют свечками — один, другой, третий!.. И понесутся среди туманных облаков, на лету превращаясь в веселых, лохматых чертей. А на земле от них останутся разве что оборвавшиеся амулеты… и то лишь может быть.
Песня была об этом. Старшие метались, раскачивались, загорались, окрашиваясь в разные цвета, но оставались на месте, не могли улететь, как будто подвал держал их на привязи. Некому было разбить для них стекло.
«ДАВАЙ ЖЕ! СКОРЕЕ!» — звенело у Кузнечика в ушах. Цвета разрывались вспышками:
Оранжевый!
Зеленый!
Белый!
Синий!
Он дышал ртом, сжавшийся, как пружина.
Зеленый!
Белый!
Ахнув, Кузнечик перевернулся на спину, и с размаху ударил каблуками в стекло. Оно зазвенело, осыпаясь, а Кузнечика подхватили с обеих сторон за руки и потащили прочь, выдернув из прутьев решеток застрявшие было ноги. Еще через несколько шагов он вскочил и побежал сам, обгоняя всех, потому что песня продолжала кричать: «Скорее, скорее!» Только теперь это был призыв к бегству. Дохляки взбежали по лестнице (Кузнечик по-прежнему впереди всех) и с грохотом, спотыкаясь и хохоча, пронеслись по коридору. Троим хромавшим казалось, что они летят быстрее ветра, двоим, тащившим третьего, что они бегут быстро, и даже самому большому, жалобно кряхтевшему в самом хвосте, казалось, что он бежит. А еще им слышался шум погони. Ворвавшись в спальню и повалившись на кровати, Дохляки зарылись в одеяла, как ящерицы в песок. Их душил хохот. Они старались лежать тихо, и только незаметно скидывали под одеялами ботинки. Упал на пол один ботинок, потом другой — всякий раз они замирали, прислушиваясь. Но было тихо. Никто за ними не гнался, никто не собирался проверять, спят ли они на самом деле. Сдавленно дыша, они играли в спящих, покуда хватило терпения. Потом медленно один за другим слезли с кроватей, сползлись на середину комнаты (к тому самому месту, где в их пещере во все вечера горел невидимый костер) и сели полукругом, поджав босые ноги.
— Зачем ты это сделал? — спросил Фокусник.
— Меня два раза уронили, — пискнул Вонючка. — Один раз на лестнице. Я мог насмерть разбиться.
Слон дрожал и сосал палец.
— Я хотел их выпустить, — объяснил Кузнечик. — В небо.
Руки Чумных Дохляков грязные от лежания на асфальте и от ржавых решеток, потянулись его ощупать.
— Эй, что с тобой?
— Это оттого, что ты туманно смотришь, — сказал Горбач. — Я-то знаю.
— Кто-то должен был их выпустить, — сказал Кузнечик. — На волю. Песня была про это.
Он замолчал и пробовал услышать песню. Через два этажа. Но все теперь было не так. Где-то далеко просто слушали музыку. И никто никого никуда не звал.
— Я бы что угодно отдал, чтобы стать взрослым, — простонал Сиамец, — и оказаться там. Чтобы как они. Я бы и сам что-нибудь разбил. Ну почему мы растем так медленно?
— А я его узнал. Черепа, — похвастался Фокусник. — Правда-правда!
— Никого ты не узнал, — сказал Волк. — Хватит врать.
Красавица обнимал соковыжималку.
— Это было… как сок, — сказал он тихо. — Как будто там все облито соком. Апельсиновым. Потом клубничным. Потом не знаю каким…
— Когда мои письма дойдут, и у нас так будет, — пообещал Вонючка. — Все это ерунда. Подумаешь — ночные пляски. Хлещут пиво и завывают. Тоже мне веселье. У нас будет лучше.
— Их и сейчас слышно, — Волк поднял палец. — Там, внизу. Они, может, и не заметили, что у них стекло полетело. А может, им все равно. Когда они веселятся.
— Давайте мы тоже будем веселиться, — предложил Горбач.
— У нас нет девчонок, — сказал Кузнечик. — И подвала нет. И проигрывателя с колонками. Но когда у нас все это будет, мы точно улетим. Не станем топтаться на одном месте.
— Ага, — закивал Вонючка. — Шарахнешь ногой по стеклу — и улетим в небеса. В белых пижамах, как привидения. Прямо на луну.
— Никто меня не заставит носить пижаму, — проворчал Горбач, — когда я буду взрослый. Пусть только попробуют…
Кузнечик пробирался вдоль стены, наступая в сметенные опилки. По кафе стлался перламутровый дым, облачками переплывая от столика к столику. Из динамиков звучала музыка. Старшие, распластав на клеенчатых скатертях локти, сближали патлатые головы и пускали дым из ноздрей. Общались. Он тихо прошел мимо, и забился в угол между пластмассовой пальмой и выключенным телевизором. Сел на корточки и застыл, переводя взгляд от одного стола к другому.
Это были обычные классные столы, застеленные клеенками. В углублениях для стаканчиков с карандашами стояли пепельницы. Старшие сами придумали это кафе и сами его обставили. Барная стойка была из ящиков, обтянутых ситцем. На ней шипели и плевались кофеварки, сохли стаканы в сушилках, а рукастый старшеклассник Гиббон жонглировал чашками, сахарницами и ложками, разливал, смешивал, взбивал и расставлял свои произведения по подносам.
Со стульев-вертушек на тонких ножках, расставленных по всей длине стойки, за ним следили жадные зрители. Наблюдатели ерзали вельветовыми задами по грибовидным сидениям, ложились на стойку, размазывая коричневые полукруги кофейных следов, запускали пальцы в сахарницы. Этот шик был доступен только ходячим. Колясникам оставались столы.
С листа пальмы над головой Кузнечика свисала картонная обезьяна на шнуре. Он посмотрел на нее, потом перевел взгляд на старших. Динамики, пришпиленные к стенам, зашуршали вхолостую. Далеко в клубах дыма за стойкой Гиббон вытер ладони полотенцем и сменил пластинку. Кузнечик уткнулся подбородком в колени и закрыл глаза. Это была не та песня. Но он верил. Если сидеть долго и никуда не уходить, в конце концов они поставят ту самую.
За окнами быстро темнело. Большинство столов были заняты. Голоса старших гудели, сливаясь в шелестящий поток. Песня танцевала, постукивала жестянками, вскрикивала. Как будто целая толпа шоколадных людей в набедренных повязках, вертела задами и стучала в песок пятками, а ладонями — в бубны. Кузнечик нюхал кофе и дым. Может, кофе — взрослящий напиток? Если его пьешь, становишся взрослым? Кузнечик считал, что так оно и есть. Жизнь подчиняется своим, никем не придуманным законам, и одним из них был кофе и те, кто его пил. И возможность превратить лекционный зал в кафе, тем самым узаконив его употребление и утвердив себя в правах взрослых.
Протезы лежали на полу ладонями вниз. В пушистой фуфайке цвета асфальта Кузнечик сидел, положив подбородок на колени и сонно сомкнув ресницы. Картонная обезьяна раскачивалась на шнуре. Кто-то подкинул пивную банку и поймал ее. По оконному стеклу побежали серебряные трещинки. Дождь. Раскаты грома заглушили музыку. За столами засмеялись и посмотрели на окна. Гиббон протер стойку. Кузнечик терпеливо ждал.
Шоколадные люди стучали и пели, неуемно жизнерадостные, неуместные ни в дождь, ни в наступающие сумерки, чуждые лицам за столами, подходящие только к запаху кофе и его цвету, муляжу пальмы и картонной обезьяне. Почему никто не слышит, что они здесь лишние? Они и их солнечные песни?
Наконец, покачав бедрами и бубнами, кофейно-шоколадные исчезли, к радости и облегчению Кузнечика. Осталось только шуршание и тихий треск затухающих костров. А потом и этот тихий звук перекрыл шум дождя, и кроме дождя не осталось ничего.
Гиббон сменил пластинку. Сквозь шорох дождя просочилась гитара. Кузнечик поднял голову и насторожился. Голос он узнал сразу. Песня была другая, но голос — тот самый, что кричал из подвального окна. Зажатый с двух сторон телевизором и пальмой, Кузнечик вздохнул и вытянул с пола руки-не-руки. Над столами и головами старших стонал и шептал голос. Сквозь водные потоки и тучи выглянуло закатное солнце, и комната окрасилась лиловым. Неважно, что это была не та песня. И эта казалась Кузнечику знакомой. Он знал ее как самого себя, как то, без чего не было бы ни его, ни остальных. Вместо подвала было кафе, но голос все равно звал. Уйти куда-то через стену дождя. Куда — никто не знает. И даже стекло разбивать незачем. Пройти его, как воду, потом сквозь дождь — и вверх. Клетчатой мозаикой скатертей и лиц таяли столы, растворяясь в дожде и в музыке. Время застыло. Дождь отстучал по лицам и ладоням. Сиреневый свет исчез, золото растаяло. Только голова Кузнечика золотисто тлела в темном углу — его голова и ресницы.