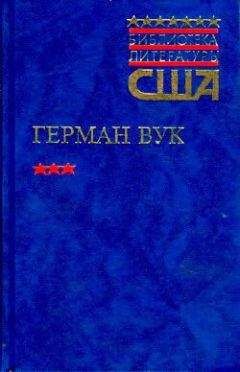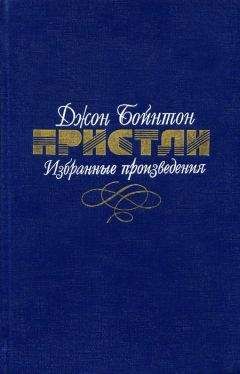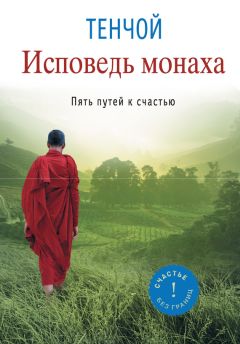– Что ты здесь делаешь?
– Кто это интересуется?
– Я – вот кто.
– А ты кто такой?
– Я – это я, – показал Герберт на желтую повязку с тремя звездочками.
– Хм! Помойная команда. – Девочка повернулась к нему спиной, достала из новенькой блестящей жестяной коробки для завтрака яблоко и с напускным равнодушием начала есть, – брови вздернуты, взгляд устремлен навстречу улыбающемуся дню.
– Тебе, наверно, захотелось спуститься со мной в кабинет мистера Гаусса, – процедил Герби.
Мистер Джулиус Гаусс – это был директор, грузный господин с круглой головой. Он появлялся перед детьми лишь на общешкольных собраниях, где заунывно читал псалмы и произносил нескончаемые речи, которые никто не понимал, но в которых вроде бы восхвалялись Джордж Вашингтон, Америка и позорные правила поведения, подходящие разве что маменькиным сынкам. По действию, производимому на детей, директор занимал второе место после страшных сказок, и все учителя это чувство подогревали, а некоторые, пожалуй, разделяли.
– И перестань есть, – добавил Герби, – когда разговариваешь со школьным старостой.
Златовласка опешила и отложила яблоко, но все-таки решила не поддаваться.
– Ты не имеешь права заставлять меня спускаться туда, – заявила она. (Они всегда говорили «спускаться к директору», возможно, по сходству директорского кабинета с преисподней.)
– Я? Не имею права? Так знай, что командир отряда Коммунальных Услуг каждый четверг – сегодня как раз четверг – должен являться к мистеру Гауссу с отчетом. И всякий, кому я прикажу пойти со мной, обязан подчиниться. Попробуй не пойди… нет, попробовать можешь. Только второй раз пробовать не захочется, а так давай, пробуй…
Все сказанное, за исключением должности Герберта, было чистым враньем. Просто он не выучился еще отличать игру своего неуемного воображения от куда более скучной действительности, и если говорил что-нибудь, то свято верил в свои слова.
– Все равно, – сказала девочка, – даже если ты и заставишь меня спуститься туда, ничего он мне не сделает, потому что я летом поеду в его лагерь.
– В лагерь? – Герби допустил промах – выдал свою растерянность. Девочка ехидно хмыкнула:
– Да, умник, в лагерь. А я думала, ты все на свете знаешь. Лагерь «Маниту» в Беркшире. Попробуй только привести к директору того, кто отдыхает с ним летом. Возьмет и выгонит тебя из твоей несчастной Помойной команды.
– Не выгонит.
– А вот и выгонит.
– Не выгонит, – выпалил Герби, – потому что я сам еду в его несчастный лагерь.
Новая выдумка блестела, как фальшивая монета, и это увидела даже маленькая доверчивая девочка.
– Врешь, – не задумываясь, сказала она.
– Сама врешь, – довольно нелепо ответил Герберт, проявив зато врожденный талант спорщика.
– Спорим на десять центов, я поеду в его лагерь, – предложила девочка, угодив в ловушку и переходя к обороне.
– Спорим на доллар, я поеду, – бросил вызов Герберт.
– Спорим на десять долларов, не поедешь.
– Спорим на тысячу долларов, ты не поедешь.
– Спорим на миллион.
– Спорим на миллиард.
Девочка, не в силах сообразить, какой порядок исчислений следует дальше, спросила с презрением:
– А где ты возьмешь миллиард долларов?
– Там же, где ты – миллион.
– Я, если захочу, могу взять миллион у папы, – заявила Златовласка; она чувствовала свою правоту, и ее злило, что приходится все время обороняться. – Мой папа самый знаменитый юрист в Бронксе.
– Подумаешь, а у моего папы самый большой завод льда в Америке. – (Тот управлял маленьким заводиком в Бронксе.)
– Мой папа богаче твоего.
– Моему папе – что твоего папу купить, что эскимо на палочке – без разницы.
– Неправда!
– Да у него на заводе работает юрист, в десять раз знаменитей твоего папы. – Герберт наспех перебрал в памяти разговоры родителей. – У него работает Луис Гласе.
Девочка издала маленький вопль торжества.
– Ха-ха, умник! – воскликнула она, вскакивая на ноги и пританцовывая. – Луис Гласе и есть мой папа.
После такого сокрушительного удара у Герби не хватило выдумки для контрудара. Он вымучил только вялое:
– А вот и нет.
– А вот и да! – сверкнула глазами девочка. – На, если ты такой умный, посмотри фамилию на моих тетрадках: Люсиль Гласе.
Герберт соблаговолил удостоить взглядом протянутую тетрадь, на которой крупным детским почерком было написано: «Люсиль Марджори Гласе, 6 «В-3».
– Так бы и сказала, – смилостивился он. – Раз уж Луис Гласе твой отец, можешь оставаться здесь. Значит ты в шестом «В-3»? А я в седьмом «В-1». Первый в классе.
– Я третья в классе, – сказала Люсиль, на этот раз с тем почтением, какого заслуживает старший по возрасту, школьный староста и к тому же отличник.
После такой завязки в отношениях наступило молчание; мальчик и девочка вспомнили вдруг, что они совсем одни на узкой лестничной площадке. Через затворенные окна до них слабо долетали веселые голоса девочек, игравших во дворе. Герби и Люсиль смущенно обернулись и некоторое время наблюдали за проворной беготней маленьких фигурок внизу.
– А ты здесь что делала-то? – спросил наконец мальчик, чувствуя, что язык плохо слушается его.
– Я в Полицейском отряде для девочек, – ответила Люсиль Гласе, – и дежурю на этой лестнице после большой перемены.
Девочка вытащила из кармана красную повязку и стала прилаживать на руку. Одной справиться было трудно, и Герби галантно пришел ей на помощь, за что был вознагражден застенчивой улыбкой. Все это время Герби мучило сомнение, – нет ли какого подвоха в том, что Люсиль, которая приходится дочерью юристу его отца, то есть, считай, его, Герберта, родственница, оказалась таким солнечным существом. Сестра и кузины были безнадежно скучными, и вообще, всех родственниц он причислял к низшему разряду девочек. Сияние вокруг Люсиль дрогнуло и померкло. Но вот они снова приумолкли, глядя во двор; Герби не мог выдавить ни слова, но вдруг волшебный свет сделался ярче и засиял с прежней силой, и он понял, что иным чарам и узы родства не помеха.
– Ну ладно, мне пора обход делать, – буркнул Герберт. – Пока.
– До свидания, – сказала девочка и сморщила вздернутый носик и упругие розовые щечки в приветливой улыбке. Герби уже вошел с лестничной площадки в коридор, когда она крикнула вдогонку: – А ты правда едешь летом в лагерь «Маниту»?
Мальчик повернулся и посмотрел на нее сверху вниз тем уничтожающим взглядом, какой бросают учителя в ответ на глупые вопросы. Ростом он был не выше девочки, и это усложняло дело, но Герби откинул голову назад и прицелился по кончику своего носа, так что выражение его лица стало действительно снисходительно-угрожающим.
– Узнаешь в свое время, – изрек он после надменной паузы и удалился.
Во второй половине дня миссис Мортимер Горкин натерпелась от Герби. Только дети расселись по местам, как ее вызвали в коридор, а вернувшись, она застала хваленого старосту стоящим на ее столе: Герби кривлялся, декламируя «Деревенского кузнеца» с идиотическим выпячиванием всех звуков, и в карикатуре она узнала себя. «Жжжеллеззо тамм куйотт вессь деннь жжеллеззною рррукой…» Миссис Горкин покарала это оскорбление власти, повелев Герби пересесть за крайнюю парту последнего ряда для девочек и не открывать рта до конца урока. Дважды провинившийся всезнайка нарушал запрет, выкрикивая безупречно точные ответы, когда класс затихал в бессильном молчании. Учительница принуждена была, вопреки здравому смыслу, осудить проявления бодрого ума. Во второй раз она решила испробовать насмешку и спросила с расстановкой:
– А позвольте узнать, господин Букбайндер, в честь чего вы так поумнели к концу дня?
Это было ошибкой. Герберт не задумываясь сорвался с места и воскликнул: «В честь вашей свадьбы, миссис Горкин!» – чем вызвал взрыв оглушительного веселья, и учительнице, пунцовой и сердитой, пришлось встать, хлопнуть ладонью по столу и потребовать тишины. Возмутителя спокойствия она заставила прикусить язык, пригрозив свести его в кабинет мистера Гаусса, если он вымолвит еще хоть слово. Однако было уже поздно. Находчивый ответ обиженного мальчишки заставил ее рассердиться у всех на виду, и поле боя осталось за Гербертом.
После уроков, когда ребята вышли из школы и строй рассыпался, Герберта сразу обступили: девочки смеялись и кричали, мальчики похлопывали его по спине, пожимали руку и отпускали одобрительные словечки в том смысле, что он «вообще-то законный парень». По общему мнению, раньше он просто «втюрился», а тяжесть этого недуга все дети понимали очень хорошо. Сам великий Ленни Кригер соизволил подчалить враскачку к Герберту и сказать: «Здорово ты ей отмочил, Пончик», – и тем узаконил его славу. Герби Букбайндер был снова принят обществом. В честь искупления грехов ему даже позволили сделать первую подачу, когда играли в бейсбол, и никто не обронил худого слова про его неловкость, как это случалось прежде.