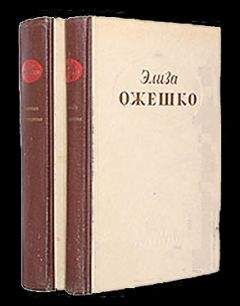— А ее бей! Для ее спасенья! Может, страх ее образумит.
— Для ее спасенья… может, еще образумится… — не поднимая глаз от земли, повторил Павел.
Час спустя он вошел в хату, ощупью нашел в темноте лампу, зажег ее и окинул взглядом комнату.
— Франка, есть давай! Слышишь? Живо!
Голос его звучал жестко. Франка выскочила из угла и, сердито взмахнув руками, закричала:
— А ты со мной своим хамским языком говорить не смей! И приказывать мне не смей, не слуга я тебе! Хоть я, ума лишившись, и вышла за тебя, а я перед тобой — пани, княгиня, королева! Не я тебе, а ты мне служить должен, пыль передо мной сметать!
Долго еще она выкрикивала подобные фразы, взбешенная тем, что Павел запер ее на несколько часов в темной избе. Павел, не отзываясь ни словом, слушал все это с каменным спокойствием. И только когда она наконец замолчала, он повторил:
— Давай есть!
— Нет у меня для тебя ничего! — крикнула Франка.
— Свари сейчас же! — сказал он, повысив голос.
Потому ли, что она сама весь день ничего не ела и была голодна, или ей хотелось погреться, так как ее бил озноб, но она принесла из сеней вязанку дров и, злобно ворча что-то, затопила печь, потом налила в горшок воды и всыпала несколько пригоршней крупы.
Павел некоторое время следил за ней рассеянным взглядом, в котором по временам вспыхивали искорки гнева. Потом пересел к столу, раскрыл молитвенник и стал его перелистывать. Быть может, он сделал это, чтобы не видеть Франки, или хотел прогнать мысли, вертевшиеся у него в голове. Должно быть, именно с этой целью он стал читать вполголоса:
— «Пусть оп-ла-ки-ваю я грехи мои, пусть гоню от себя ис-ку-ше-ния…»
У печи, в которой уже пылал огонь, раздался резкий язвительный смех.
— Вот так чтение! Любо слушать! Сразу видно, что ученый! Эх, навоз тебе возить, а не книги читать! Деревенщина!
Павел, подперев голову руками, читал дальше:
— «Пусть ис-пра-а-влю дур-ные склон-но-с-ти… склонности мои…»
— Перестанешь ты или нет? — крикнула Франка. — Мне легче кваканье лягушек слушать, чем это хамское чтение! Читать ему захотелось! Какой пан выискался! Граф! Раввин еврейский!
Павел читал, вернее — бубнил, растягивая слоги:
— «Пусть с-т-р-е-м-люсь я к до-бро-де-доброде-те-ли…»
Тут маленькая дрожащая рука ловко выхватила у него книжку из-под носа. Он вскочил, выпрямившись, как струна, глаза у него засверкали.
— Отдай!
— Не твоя книга, а моя! Не имеешь права мое трогать! Захочу — так сожгу, и все! На том свете черти тебе будут книжки давать!
— Франка, отдай, слышишь? Изобью! — сквозь сжатые зубы процедил Павел, и видно было, что он с невероятным трудом сдерживает гнев, страшный гнев человека смирного и доброго, но доведенного до крайности.
— Бей! — крикнула Франка. — А книжку я сожгу!
Она размахнулась, как бы желая бросить молитвенник в огонь, но ей помешала железная рука, которая, как тисками, сжала ей плечо.
Павел вырвал у нее книгу и тяжело сел на лавку.
Он был бледен как смерть, тяжело дышал и несколько раз повторил шепотом:
— Ад! Ад! Ад кромешный!
Он еще сдерживался, не хотел бить ее. Через несколько минут он даже заговорил с нею сдавленным, прерывающимся голосом:
— Франка, опомнись! Побойся бога, душу свою пожалей… Ведь ты мне когда-то на могилах перед святым крестом клялась… и потом клялась в костеле… Ведь я тебе ничего худого не сделал… За что ты меня мучаешь? Зачем сама себя губишь?
Франка молчала, стоя у огня, и дрожащей рукой помешивала в горшке воду с крупой. Лицо ее, освещенное красными отблесками огня, выражало какую-то нерешимость, сомнения, раздумье. Бушевавшая в ней злоба как будто утихала, и, когда Павел сказал: «Ведь я тебе ничего худого не сделал, за что ты меня мучаешь?», щеки ее судорожно задергались, и она прикрыла глаза ресницами. Казалось, в ней снова заговорила совесть.
Вдруг дверь со стуком приоткрылась, две большие красные руки просунули в комнату маленького Октавиана, и голос стоявшей за дверью Ульяны, резкий и презрительный, прокричал:
— На тебе твоего щенка! Почему сама за ним не смотришь? Если бы не я, от него бы и косточек не собрали… На дороге бегал… я его из-под воза выволокла, из-под самых колес! Почему он у тебя без призора? Родила, так и смотри за ним! Из тебя и мать такая же, как жена! Стерва, а не мать! Содом и Гоморра, а не жена!
Она с грохотом захлопнула дверь, а Октавиан, очутившись в комнате, вцепился руками в свои кудри и заревел.
Услышав голос Ульяны, особенно ненавистной ей с тех пор, как из-за нее и ее мужа она была избита Павлом и разлучена с Данилкой, Франка, с угрожающим видом сжав кулаки, рванулась к дверям.
— Убью! — крикнула она. — Видит бог, убью!.. Схвачу за горло и задушу, как собаку…
Легко было поверить, что если она сейчас догонит Ульяну, то попытается, во всяком случае, выполнить свою угрозу. Но снова плечо ее очутилось в железных тисках мужниной руки, и она, отчаянно вскрикнув, пригнулась к земле. А в комнате сквозь ее вопли и всхлипывания испуганного малыша слышались удары и прерывистый, сдавленный шепот:
— Не убьешь!.. Не убьешь! Раньше я тебя… Терпи, раз виновата! Кайся и терпи за свои грехи. Убивать еще вздумала!.. Опомнись!..
Наконец все утихло, и Павел с опущенной головой вышел из хаты. Грудь его бурно вздымалась, бледное лицо было облито потом. У этого сильного мужчины дрожали и подкашивались ноги. Он сел на пороге, обхватив голову руками, и качался из стороны в сторону.
— Иисусе! Ох, Иисусе милосердый! — твердил он в отчаянии, громко вздыхая.
Ну вот, опять он избил ее — и еще сильнее, чем в первый раз…
Так сидел он с полчаса, качаясь и взывая к милосердию божию. Потом, вдруг о чем-то вспомнив, встал и вошел в избу. Что с Октавианом? Он осмотрелся. Франки не было видно — она, должно быть, забилась куда-то в угол, — а Октавиан сидел на полу у печи и строил из щепок домик или забор. Жмуря сонные глаза, он время от времени поглядывал на горшок, стоявший у догоравшего огня. Увидев Павла, он бросил щепки и жалобно закричал:
— Татко! Есть хочу!
Суп был недоварен. Павел достал из шкафчика кусок хлеба, положил на него тонкий ломтик сала и дал мальчику. Потом, нагнувшись, взял его на руки и отнес на постель.
— Как поешь, ложись спать! — сказал он ему.
Из самого темного угла, где среди рыболовных снастей и всякого хозяйственного инвентаря чаще всего шумели и возились мыши, сердитый голос, прерываемый стонами, проворчал:
— Не тронь моего ребенка! Слышишь? Это мой ребенок… панский… а ты разбойник, кровопийца, хам, грязный мужик! Слышишь?
Павел, не отозвавшись ни словом, потушил лампу, снова вышел и не возвращался до утра.
Дня через три после этого тяжелого, страшного вечера наступил день, еще более страшный для обитателей обеих изб, когда Франка, казалось, совсем уже лишилась рассудка. Козлюки наблюдали за ней с ужасом и отвращением, — тем более что им была хорошо известна причина этого жестокого припадка бешенства. Они узнали ее от Данилки, который вчера под вечер влетел в избу и, чуть не плача, закричал:
— Ну что же мне делать? Опять все на мою голову свалят… Липнет, как смола… Вот сейчас на гумно прибежала… обнимает… просит… соблазняет…
— А ты что? — сурово спросил Филипп, поднимая голову от бороны, которую чинил.
— Дал по загривку, да и убежал! — тонким голосом ответил Данилко.
— Не врешь?
— Ей-богу, правда!
— Ну, смотри!.. Если опять что — шкуру спущу!
Ульяна, месившая хлеб в квашне, пробормотала себе под нос какое-то ругательство и, скривив губы, плюнула в сторону.
Данилко сказал правду. Мысль о свидании с ним наедине гвоздем засела в голове у Франки и горячила ей кровь. Ее влекла к парню не только необузданная страсть, но и желание во что бы то ни стало поставить на своем, назло всему и всем. То был дикий бунт против связывавших ее уз и той ненавистной руки, которая ее укрощала. И чем сильнее разгоралась в ней ненависть к Павлу и его родным, исступленное желание доказать им, что она не покорилась, — тем больше жаждала она хоть на миг в объятиях молодого любовника забыть о том, что у нее наболело, что мучило и жгло, как огнем. Ведь она была глубоко уверена, что Данилко ее обожает, что он рад был бы даже жениться на ней, если бы она была свободна, а избегает ее только потому, что боится Филиппа и Павла.
Данилко действительно избегал ее. Вначале, ослепленный и упоенный первым в его жизни любовным приключением, он легко поддался нашептываниям Марцели и заигрыванию Франки, но теперь он боялся не только гнева брата, но и греха, он был пристыжен, охладел и, махнув рукой, решительно сказал себе:
— Знать ее не хочу!
Поэтому, когда Франка, улучив наконец удобную минуту, прибежала к парню в овин и стала ластиться к нему, обнимая его и шепча что-то, он оттолкнул ее и сердито сказал: