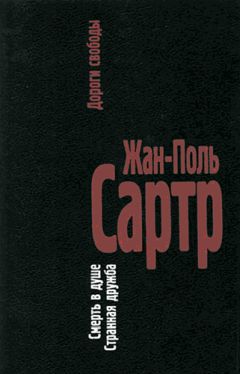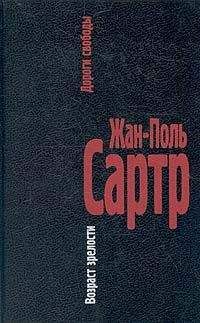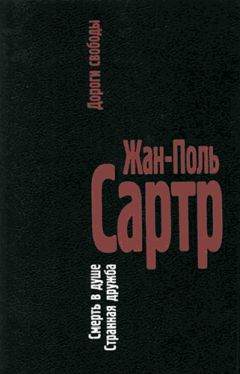— Это французы подожгли? — спросила она.
— Вы что, мамаша, тронутая? — сказал Люберон. — Это немцы.
Какой-то старик недоверчиво покачал головой:
— Немцы?
— Да да, немцы, фрицы!
Старик, казалось, не слишком этому верил.
— В ту войну немцы уже приходили. И ничего особенного не натворили: это были неплохие парни.
— С чего бы нам поджигать? — возмущенно спросил Люберон. — Мы же не дикари.
— А зачем им поджигать? Где им тогда на постой становиться?
Бородатый солдат поднял руку:
— Это, наверное, нашим идиотам вздумалось пострелять. Если у фрицев есть хоть один убитый, они сжигают всю деревню.
Женщина обеспокоенно повернулась к нему.
— А вы? — спросила она.
— Что мы?
— Вы-то не собираетесь наделать глупостей? Солдаты расхохотались.
— Мы — другое дело! — убежденно сказал один из них. — С нами можете считать себя в полной безопасности. Мы знаем, что к чему.
Они заговорщицки переглянулись:
— Мы знаем, что к чему, мы знаем песню.
— Вы думаете, мы станем искать ссоры с фрицами накануне мира?
Женщина гладила головку ребенка: она неуверенно спросила:
— Значит, наступил мир?
— Да, мир, — убежденно сказал учитель. — Наступил мир. Вот во что нужно верить.
По толпе пробежала дрожь; Матье услышал за спиной робкое дуновение почти радостных голосов:
— Это мир, мир!..
Они смотрели, как горел Робервилль, и повторяли друг другу: война окончена, это мир; Матье посмотрел на дорогу: она вырывалась из ночи на двести метров, текла в неясной белизне до его ног и уходила омывать за его спиной дома с закрытыми ставнями. Красивая дорога, полная случайностей и смертельная, красивая дорога, во всяком случае, в одном направлении. Она вновь обрела первозданную дикость античных рек: завтра она принесет в деревню корабли, загруженные убийцами. Шарло вздохнул, и Матье, ничего не сказав, сжал ему руку.
— Вот они! — сказал чей-то голос.
— Кто?
— Фрицы, говорю тебе: вот они!
Тень зашевелилась, солдаты-стрелки с ружьями в руках по одному выходили из черной воды ночи. Они продвигались медленно, осторожно, готовые стрелять.
— Вот они! Вот они!
Матье толкнули, сдвинули с места: широкое и беспорядочное колебание началось в толпе вокруг него.
— Бежим, ребята! — крикнул Люберон.
— Ты что, спятил? Они нас увидели, остается только их ждать.
— Ждать их? А они в нас будут стрелять, да?
Толпа единодушно удрученно вздохнула; пронзительный голос учителя прорезал ночь:
— Женщины — назад! Мужчины, бросьте винтовки, если они у вас есть! И поднимите руки вверх.
— Вы, кретины! — закричал возмущенный Матье. — Вы что, не видите, что это французы?
— Французы…
Все мгновенно остановились, затоптались на месте, потом кто-то вслух усомнился:
— Французы? Откуда они взялись?
Это были французы, человек пятнадцать под командованием лейтенанта. У них были почерневшие и суровые лица. Деревенские жители выстроились по обочинам дороги и недружелюбно смотрели, как проходит этот отряд. Французы, да, но они идут из чужих и опасных мест. С ружьями. Ночью. Французы, которые выходят из тени войны и приводят войну в это уже умиротворенное селенье. Французы. Может быть, парижане или бордосцы; вовсе не немцы. Они прошли между двумя изгородями из вялой враждебности, ни на кого не глядя; вид у них был гордый. Лейтенант отдал приказ, и они остановились.
— Какая здесь дивизия? — спросил он.
Он ни к кому лично не обращался. Все промолчали, и он повторил вопрос.
— Шестьдесят первая, — неприязненно ответил кто-то.
— Где ваши командиры?
— Удрали.
— Что?
— Удрали, — повторил солдат с явной издевкой. Лейтенант скривился и не стал настаивать.
— Где мэрия?
Шарло, как всегда предупредительный, приблизился:
— Слева, в конце улицы. Метров сто пройдете — там будет мэрия.
Офицер резко обернулся к нему и смерил его взглядом:
— Что это за манера говорить со старшим по званию? Где ваша выправка? Вы что, подавитесь, если скажете «господин лейтенант»?
Несколько секунд царило молчание. Офицер смотрел Шарло в глаза; вокруг Матье люди глазели на офицера. Шарло стал по стойке смирно.
— Слушаюсь, господин лейтенант.
— Вот так.
Офицер обвел круг презрительным взглядом, подал знак, и маленький отряд тронулся дальше. Люди молча смотрели, как он углубляется в ночь.
— Значит, с офицерами еще не покончено? — огорченно спросил Люберон.
— С офицерами? — повторил чей-то нервный и горький голос. — Ты их не знаешь, они еще долго будут пудрить нам мозги.
Одна из женщин вдруг закричала:
— Неужто они собираются здесь сражаться?!
В толпе раздался смех, и Шарло добродушно сказал:
— О чем вы говорите, мамаша: они же не сумасшедшие.
Снова наступила тишина, все лица повернулись к северу. Робервилль, одинокий, недосягаемый, уже почти мифический, незадачливо горел в чужой стране, по другую сторону границы. Потасовка, бойня, пожар — все это годится для Робсрвилля, но с нами такого случиться не может. Медленно, небрежно люди отделялись от толпы и направлялись к деревне. Они возвращались, сейчас они вздремнут, чтобы быть бодрыми, когда ранним утром притащатся фрицы. «Какая гадость!» — подумал Матье.
— Ладно, — сказал Шарло, — я пойду.
— Ты идешь спать?
— Да, пожалуй.
— Хочешь, я пойду с тобой?
— Не стоит, — зевая, ответил Шарло.
Он удалился; Матье остался один. «Мы рабы, — подумал он, — рабы». Но он не сердило! та своих товарищей, они не виноваты: десять месяцев отбыли они на каторжных работах, теперь менялась власть, и они переходили в руки немецких офицеров, они будут отдавать честь господину фельдфебелю и господину оберлейтенанту; и тут не было большой разницы: каста офицеров интернациональна; каторжные работы продолжаются, только и всего. «Я на себя сержусь», — подумал Матье. Но он упрекал себя потому, что так можно было поставить себя выше других. Снисходительный ко всем, суровый к себе: еще одна уловка гордыни. Невиновный и виноватый, слишком суровый и слишком снисходительный, бессильный и ответственный, солидарный со всеми и отвергнутый каждым, совершенно здравомыслящий и полностью одураченный, раб и господин. Кто-то схватил его за руку. Это была девушка с почты. Ее глаза горели.
— Помешайте ему, если вы его друг!
— А?
— Он хочет сражаться; помешайте ему?
Пинетт появился за ней, бледный, с потухшими глазами и злой ухмылкой.
— Что ты хочешь делать, дуралей? — спросил Матье.
— Я же вам говорю, он хочет сражаться, я сама это слышала: он подошел к капитану и сказал, что хочет сражаться.
— Какому капитану?
— Который только что прошел со своим отрядом. Пинетт ухмылялся, заложив руки за спину:
— Это был не капитан, а лейтенант.
— Ты и вправду собираешься сражаться? — спросил у него Матье.
— Вы все мне осточертели! — ответил Пинетт.
— Вот видите! — воскликнула девушка. — Видите! Он сказал, что хочет сражаться. Я сама слышала.
— Но откуда вы знаете, что тот отряд собирается сражаться?
— Значит, вы их не видели? Это ясно по их глазам. А он, — сказала она, показывая пальцем на Пинетта, — он меня пугает, он просто чудовище!
Матье пожал плечами.
— Что я должен сделать?
— Разве вы ему не друг?
— Разумеется, друг.
— Если вы его друг, вы должны ему сказать, что теперь у него нет права погибать!
Она уцепилась за плечи Матье.
— Теперь у него нет на это права!
— Почему это?
— Вы прекрасно знаете. Пинетт жестоко и вяло улыбнулся:
— Я солдат и обязан сражаться: солдаты для того и существуют.
— Тогда не нужно было меня соблазнять!
Она схватила его за руку и добавила дрожащим голосом:
— Ты мой!
Пинетт высвободился:
— Я ничейный!
— Нет, — настаивала она? — ты мой. — Она повернулась к Матье и лихорадочно заговорила: — Ну втолкуйте же ему это! Объясните ему, что теперь у него нет права погибать. Вы обязаны ему это сказать!
Матье молчал; она наступала на него, лило ее пылало; в первый раз она показалась Матье привлекательной.
— Вы строите из себя его друга, но вам все равно, что с ним произойдет!
— Нет, мне не все равно.
— По-вашему, правильно, если он побежит палить, как мальчишка, по целой армии? И если бы это ему хоть что-то дало! Вам ведь известно, что никто уже не сражается.
— Да, я знаю, — сказал Матье.
— Так чего же вы ждете? Скажите ему!
— Пусть он спросит мое мнение.
— Анри! Я тебя умоляю, попроси у него совета, он старше тебя, он должен знать!