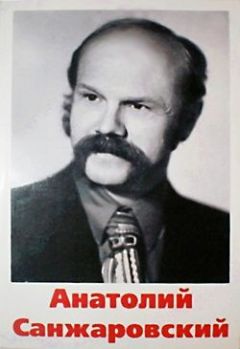В этой элитной башне одинокий Кребс выхватил себе однокомнатную келью.
Нежданное соседство с Таисией Викторовной и разогрело, и растревожило старчика.
Ему вспомнилось, как провожал Таёжку, и старческая слезливость взяла над ним волю, он расплакался. Таёжка, Таёжка… Ничего-то чище, ничего-то светлей твоей любви не было во всю долгую, во всю бездольную жизнь…
Он целыми днями толокся у её дома, множество раз торопливо, воровски поджигал к калитке. Однажды даже брякнул кольцом и тут же отскочил в панике. С какими глазами вползёшь? Что скажешь? Что?
Не решался он больше подскребаться к её домичку. «Подержи себя в руках, подержи… Вот с дня на день поставят телефон, по телефону всё и выпоешь…»
Брело время медленно, тянуче. День – год. Ночь – два.
Ему некогда было ждать. Он хотел видеть её каждый день.
Пресноглазый, он уже плохо видел, плохо слышал, и со своего двадцатого этажа уже не различал людей. Купил сильный морской бинокль, купил помповую трубу.
В тонком боку балкона спроворил щёлку и по утрам, едва отогревшись со сна чаем, приваливался к ней с биноклем, твёрдо угнездившись на малорослом раскидном стульчике.
Случалось, с утра до самого вечера, за вычетом короткого перерыва на беглый обедишко, недвижно корёжился он у щели. Со стороны так глянь, спокойно примешь за окаменелого истукана. От неудобства в позе его всего ломило, всё ныло в нём, так зато все эти страдания тела воздавались душе сторицею – он видел её во весь день!
Он видел, как она готовила на керосинке в коридоре со стеклянным боком.
Видел, как она там же, в коридоре, ела за крохотным столиком в уголке.
Видел, как там же, в коридоре, отдыхала на узкой раскладушке.
Видел, как она ходила за водой к колонке.
Видел, как ходила в ближний магазин.
Видел, как копалась в огородишке, убирая и снося в погреб картошку.
Видел, как ходила по рынку. Слава Богу, рынок за её домком, чуть наискоску, и крайние ряды были досягаемы ему. Он видел, как она ходила там, выбирала яблоки, и кавказские базарщики, хмурые небритые чебуреки, покашивались на неё, как ему казалось, с просыпающимся вожделением. Он в мщении молча сжимал и вскидывал слабый, уже без силы, высохший, какой-то пергаментный пустой кулачок. Она уходила с рынка, и он благостно притихал.
Видеть её – ему бóльшего и не надо.
Однако ему очень не нравилось, вроде как горчицей по губам, когда она долгое время была видима лишь со спины – когда на боку отдыхала после обеда, подпихнув ладошку под щёку и отвернувшись от окна. Мрачнея, он начинал отрывисто дудеть, будил её.
Она просыпалась, ложилась на спину или поворачивалась лицом к окну, и тогда дуденье обламывалось. Но если она ложилась так, что снова не было хорошо видать лица, он снова дудел, одновременно держа и трубу и бинокль, дудел отрывисто, заигрывающе, вроде как в прятки поиграть звал. Меня-де не видно, но ты найди!
Она сердито искала дударя – а, поведи тя леший! – недоумевая, кто это там дуром дурит, поочередно обегая удивлёнными глазами все балконы и нигде не находя дудильщика. А он при этих её поисках цвёл. Он видел её в лицо!
И вот установили ему телефон.
Едва мастер поплотней поддёрнул за собой дверь, как он вальнулся к трубке. Первый номер, который он набрал, был её. Пятьдесят девять – девяносто шесть!
– Привет! – пальнул дурашливо-беззаботным тоном, который так в чести у близких молодых.
Она узнала его.
Ответила охолодело, опустошённо:
– Здравствуйте.
– Привет, радость всенародная! – с разгону затараторил он, затараторил счастливо, взахлёб. – Таёжка! Милочек! Да знаете ли вы, что я, старый сморчок, ваш сосед! Ни больше ни меньше. В башне вырвал каюточку! Давайте дружить саклями!
«Ёрник. Болтуха. Пустоболт».
Она хотела бросить трубку, но любопытство шепнуло ей: подожди. Поругаться всегда успеешь.
Её самолюбие улыбнулось. Позвонил первый… Выходит, сдался? Она положила немного тепла в голос, спросила:
– Значит, за тридцать лет наконец-то надумали дружить домами?
– Да! – горячечно подкрикнул он.
– Ну куда лезть в друзья моей курюшке к вашему небоскребу?
– Так уж и небоскреб! Всего-то двадцать два этажульки. Всё скромней… недоскрёб скорей. Пожалуйста, соглашайтесь. Или… – он запнулся, – или вы всё ко мне в обиде? Возможно, я глубоко виноват перед вами, но, видит Бог, я заблуждался, чистосердечно заблуждался… Поверьте…
– Вы не заблуждались, – тихо, в раздумчивости возразила она. – Вы всю жизнь блуждали по тайге дремучей, да выходить из тайги так и не желаете.
– Если б не желал, я б не позвонил вам. – Он помолчал, натянуто хохотнул: – Приходите. Хоть погреетесь. Уже придавили холода и жутко видеть, как вы маетесь с этой печкой, с этими дровами, с углем, с водой… А у меня всё это сидит в батарее, в кране. Всё самодуриком! У меня на двадцатой палубе в двести десятой каюте тепло-о… А старая кость лакома к теплу. Посплетничаем о тепле, о старости…
– Скажите, какая актуальная тема – старость.
– Для нас с вами, увы, актуальная. Хотя… Куда же делась жизнь? Простите за откровенность, вы для меня навсегда остались семнадцатилетней девочкой… чистой, как бумага… Говоря открытым текстом, искренне жалею, что обтесали меня тупым топором. Неотёс сибирский… Слишком долго косил я сено дугой… Знайте, для меня вы всегда будете семнадцатилетней девочкой…
– Э-э… – припечалилась она. – У вашей семнадцатилетней девочки уже внучка вышла на возраст. Двадцать два года!
Эта новость подживила Кребса.
– Приходите с внучкой! – весело сказал он.
– А если она вас, извините, побьёт? – так же весело спросила Таисия Викторовна.
Кребс смешался.
– Ну… – трудно посопел он, – я считаю, такие излишества просто ни к чему…
– Не бойтесь, она не здесь. Она в Москве.
– Тем лучше, – приокреп он. – Спешу на всякий случай предупредить. Как бы ни сложились наши отношения, каждый вечер с десяти до половинушки одиннадцатого стану я играть на трубе лично для вас колыбельную. Вам наверняка и в детстве не пели колыбельные. Моя колыбельная на мотив песни, знакомой вам с молодой поры. Пел я её на свой лад.
Промокнув платочком слезливые красные глаза и подобравшись, он дребезжаще запел:
– Моё счастье где-то недалечко.
Подойду и постучу в окно.
«Выйди на крылечко, милое сердечко,
А не выйдешь – вытащу в окно».
Пропев, он глухо пояснил:
– Вот такая песня. Приходите…
– А вы считаете это прилично?
– Милая вы Тайна Викторовна! Неприлично, я слышал, только на полный рот разговаривать. Помните, на объединённом заседании вы мне… вы меня упрекнули, мало-де знаю я латинских изречений. Всего семь. И все тогда, кажется, привели. Знаете, ваша критика легла мне в пользу. За прошедшие тридцать лет я… не сидел сложа ручки… Подкопил ещё кой-какие. Вот… Аlbo dies notanda lapillo. День, который следует отметить белым камешком. Этот день – сегодняшний. Я снова слышу вас… Я счастлив до смерти слышать вас. Я один, совершенно один… Как бы вы сказали, один-разбоженный, ни роду ни плоду… Совсем один на всем белом свете… Тяжело так…нигде никого… Ох… Ну… Отложим нытьё на вторую серию… А насчёт прилично, неприлично… Милочек, мне уже ого-го с гачком! Под сотейник подпирает…
Мягко говоря, Борислав Львович несколько отклонился от истины. Ему настукивал уже сто второй, но он боялся самому себе признаться, что уже переполз через вековой рубеж. Забрался на таран, залез слишком высоко!
Он суеверно опасался переступать столетний порожек, и хотя уже второй год вытягивал из второго века своего, любопытным он упорно отвечал, что ему около ста. Не больше. Все-таки когда тебе около ста, ты моложе, твёрже, надёжней. А признайся, что тебя занесло за сотнягу уже – самому смертельно страшно становится.
– Я скромно прошу у судьбы, – продолжал Борислав Львович, – сущий пустячок с довеском. Отживу с Гиппократово,[75] а там можно и в отставку падать.
– А сколько жил Гиппократ?
– Точного история ответа не даёт. Замнём и мы для ясности… Помните, в нашем возрасте всё прилично! Что мы ни сделай – всё прилично! Потому что на неприличное мы просто неспособны. Нет у нас сил на неприличное…
Кребс глубоко почитал чужую штучку про то, что «без секса прожить ещё можно, а вот без разговоров о нём – никогда!» и, обрадовавшись, что вот вдруг обломилось ему, одинокому, с кем поболтать, тараторливо шатнулся шелушить слова:
– Вы знаете, как распределяются мужчины по музыкальным инструментам? Думаю, не знаете, так послушайте. От восемнадцати до двадцати мужчина как кларнет. Играет без настройки. Но кто разбирается в музыке, тому игра не нравится…
Ей стало стыдно, что через тридцать лет молчания этот трухлявый старый пим и явный гаргальчик,[76] так и оставшийся на бобылях, ничего-то лучшего и не придумал, как в первую же минуту навалился молотить заборную похабщину. Или его уже вышибло из ума? Или он неполный умом? Не вызывает симпатий мужчина, выворачивающий жирные анекдоты. Но разве больше достоинств у женщины, слушающей их? И разве не верно, что с нами ведут так, как мы позволяем?