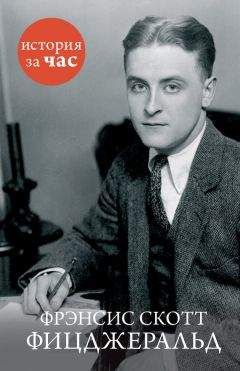После соблюдения формальностей, продиктованных вежливостью, которая, по предположениям Энтони, являлась отличительной чертой японцев, Тана разразился длинной речью на ломаном английском языке относительно характера отношений между хозяином и слугой. Из этого монолога Энтони понял, что Тана работал в крупных поместьях и неизменно ссорился с другими слугами, так как те были недостаточно честными. Особенно подробно и долго обсуждалось слово «честный», после чего Энтони и Тана почувствовали некоторую досаду друг на друга, так как Энтони упорно настаивал, что японец произносит его как «шершни», и даже дошел до того, что принялся жужжать, уподобляясь пчеле, и размахивать руками, имитируя крылья.
После беседы, занявшей три четверти часа, Энтони был отпущен на свободу с любезными заверениями, что в дальнейшем им предстоит множество приятных разговоров, в ходе которых Тана поведает, «как это дерают в моей странье».
Вот таким потоком красноречия сопровождалось первое появление Таны в сером домике. И он выполнил все свои обещания. Несмотря на исключительную добросовестность и честность, японец оказался невообразимым занудой и, похоже, был не способен управлять своим языком, перескакивая по ходу речи с одной мысли на другую с выражением болезненной растерянности в узеньких карих глазках.
По воскресеньям и понедельникам после обеда он читал раздел комиксов в газетах. Одна картинка, изображавшая жизнерадостного японца-дворецкого, несказанно развеселила Тану, хотя он уверял, что персонаж, в котором Энтони отчетливо виделись азиатские черты, является настоящим американцем. Но главная трудность при чтении комиксов заключалась в другом. Когда Тана с помощью Энтони прочитывал подписи к трем последним картинкам и с сосредоточенностью, достойной человека, постигающего суть кантовских «Критик», старался уразуметь их смысл, он уже начисто забывал, о чем велась речь в подписях под первыми картинками.
В середине июня Энтони и Глория отпраздновали первую годовщину свадьбы, назначив друг другу «свидание». Энтони постучал в дверь, и она бросилась открывать. Супруги сидели рядом на кушетке, вспоминая имена, которые придумали друг для друга, представляющие собой новые сочетания старых как мир проявлений нежности. И все же этому свиданию не хватило восторженного, полного сожаления прощания с пожеланием спокойной ночи.
В конце июня Глория заглянула в глаза ужасу, нанесшему удар, который наполнил страхом безмятежно-ясную душу, состарив ее на несколько десятилетий. Потом его отголоски постепенно померкли и в конце концов исчезли в непроглядной тьме, откуда и выплыл кошмар, безжалостно унося с собой частицу юности.
С безошибочным чутьем он выбрал местом действия для драматической сцены маленькую железнодорожную станцию в жалкой деревушке недалеко от Портчестера. Пустынная, словно прерия, платформа была открыта лучам запыленного желтого солнца и взглядам представителей наиболее неприятного типа сельских жителей, которые, живя вблизи крупного города, успели нахвататься дешевого шика, не приобщив к нему культуру городской жизни. Свидетелями инцидента и стала дюжина этих красноглазых, похожих на вороньи пугала мужланов. Происшествие едва ли затронуло их невосприимчивый затуманенный разум и в целом было воспринято как грубая шутка, а если вдаваться в тонкости — как «срам». Тем не менее именно на этой платформе мир слегка поблек, утратив частицу своей яркой красоты.
В тот день Энтони проводил жаркие послеполуденные часы в обществе Эрика Мерриама за графином шотландского виски, пока Глория и Констанс Мерриам плавали и загорали на пляже одного из клубов. Правда, Констанс пряталась под полосатым зонтиком, а Глория, растянувшись на горячем песке, не удержалась от соблазна подставить солнцу ноги. Потом все четверо перекусили незатейливыми сандвичами, и тут Глория, встав с места, постучала зонтиком по колену Энтони, желая привлечь его внимание.
— Милый, нам нужно идти.
— Прямо сейчас? — Он бросил на жену недовольный взгляд. В тот момент для него самым важным являлось пребывание в праздности на тенистой веранде, попивая выдержанное шотландское виски, пока хозяин предается бесконечным воспоминаниям об эпизодах канувшей в Лету политической кампании.
— Нам действительно пора, — повторила Глория. — Можно взять такси и доехать до вокзала. Ну же, Энтони! — В ее голосе слышались властные нотки.
— Да нет, послушайте… — Мерриам потерял нить повествования и принялся выдвигать обычные в подобных случаях возражения. Попутно он наполнил стакан гостя очередной порцией виски с содовой, на поглощение которой ушло бы еще минут десять. Но, услышав от Глории настойчивое «нам пора», Энтони залпом осушил стакан, встал с места и с подчеркнутой любезностью раскланялся с хозяйкой.
— Похоже, нам и правда «пора», — заметил он с нескрываемой досадой.
Через минуту он уже шел за женой по садовой дорожке между высокими кустами роз, ее зонтик с тихим шуршанием скользил по сочной июньской листве. Какое пренебрежение к чувствам других людей! С этой мыслью Энтони следом за Глорией вышел на дорогу. Он выглядел обиженным ребенком. Глории не следовало прерывать абсолютно невинное и такое приятное времяпровождение. Виски одновременно успокоило и прояснило его неугомонный ум, и тут Энтони пришло в голову, что жена проделывает подобный трюк уже не в первый раз. Неужели всю жизнь придется прерывать доставляющее радость занятие, повинуясь удару зонтика или неодобрительному взгляду? Недовольство перерастало в злобу, которая все сильнее закипала в душе. Энтони молчал, с трудом подавляя желание обрушиться на жену с упреками. Перед гостиницей они нашли такси и в полном молчании поехали на станцию.
И тут Энтони понял, чего хочет. Продемонстрировать свою непреклонную волю этой равнодушной и черствой девчонке, одним мощным усилием обрести над ней власть, которая казалась сейчас такой желанной.
— Давай навестим Барнсов, — предложил он, не глядя на жену. — У меня нет желания ехать домой.
У миссис Барнс, урожденной Рейчел Джеррил, имелся летний домик в нескольких милях от Редгейта.
— Мы там были позавчера, — лаконично возразила Глория.
— А по-моему, они обрадуются. — Энтони чувствовал, что выразил свою мысль недостаточно решительно, и, собравшись с духом, упрямо продолжил: — Хочу повидаться с Барнсами. Не имею ни малейшего желания ехать домой.
— А у меня нет настроения для визита к Барнсам.
Они сердито смотрели друг на друга.
— Послушай, Энтони, — с раздражением сказала Глория, — сегодня воскресенье, и к ним, вероятно, приедут на ужин гости. С какой стати вваливаться к людям в дом в такой час?..
— Тогда почему мы не остались у Мерриамов? — вспылил он. — Зачем ехать домой, если мы так приятно проводили время? Мерриамы просили нас остаться на ужин.
— Им пришлось пригласить нас. Дай денег, и я куплю билеты на поезд.
— И не подумаю! Не собираюсь задыхаться в этом проклятом поезде.
Глория нетерпеливо топнула ногой.
— Энтони, ты ведешь себя как пьяный!
— Напротив, я абсолютно трезв.
Однако голос Энтони вдруг стал хриплым, и Глория поняла, что это неправда.
— Если ты трезв, дай денег на билеты.
Но разговаривать с ним в подобном тоне было уже бесполезно. Сознание Энтони сверлила одна мысль: Глория — эгоистка, всегда такой была и не прекратит свои выходки, если здесь и сейчас он не утвердится в качестве хозяина положения. И случай самый что ни на есть подходящий, ведь по глупой прихоти она лишила мужа удовольствия. Решимость крепла с каждой секундой, перерастая в тупую мрачную злобу.
— Я не сяду в поезд, — заявил Энтони дрожащим от гнева голосом. — Мы навестим Барнсов.
— Не хочу! — с досадой выкрикнула Глория. — В таком случае я поеду домой одна.
— Счастливого пути.
Ни слова не говоря, она направилась к билетной кассе, и тут Энтони вспомнил, что у Глории есть при себе сколько-то денег. И до него дошло, что не такой он победы желал, не к тому стремился. Бросившись вслед за женой, он схватил ее за руку.
— Слушай меня! — задыхаясь, выдавил он. — Ты одна никуда не поедешь!
— Еще как поеду! Что ты делаешь, Энтони?! — воскликнула Глория, пытаясь вырваться, но Энтони только сильнее сжал руку, глядя на жену прищуренными, горящими злобой глазами. — Отпусти! — с яростью крикнула Глория. — Если осталась хоть капля порядочности!
— С какой стати? — Разумеется, он понимал с какой, но, подстрекаемый гордыней, к которой примешивалась неуверенность, считал, что непременно должен ее удержать.
— Я еду домой, понимаешь? И ты меня отпустишь!
— И не подумаю.
Глаза Глории горели гневом.
— Хочешь устроить здесь сцену?


![Фрэнсис Фицджеральд - Три часа между рейсами [сборник рассказов]](https://cdn.my-library.info/books/137285/137285.jpg)