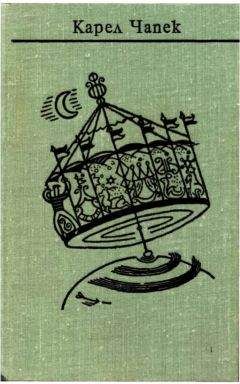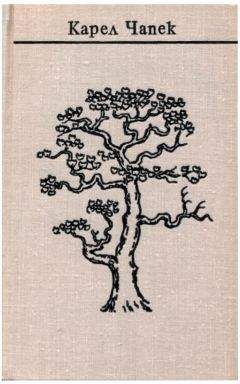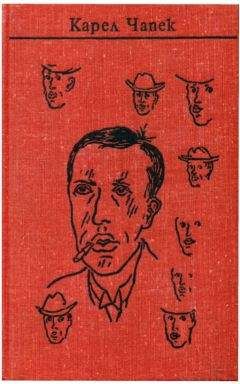Тогда ему становится стыдно, его охватывает безграничная нежность, и он уже ни на что больше не отваживается — только гладит ее по волосам: это можно, это можно; господи, она ведь еще совсем ребенок и совсем глупенькая! А теперь — ни слова, ни словечка больше, чтобы даже дыханием не оскорбить неслыханного детства этой белой рослой телочки; ни одной мысли, которая могла бы грубо объяснить смятенные побуждения этого вечера! Он говорит, сам не понимая что; в его речах звучит медвежья мелодия, и нет никакого синтаксиса; они касаются попеременно звезд, любви, бога, прекрасной ночи и какой-то оперы — название и сюжет Прокоп не в силах вспомнить, но скрипки и человеческие голоса звучат в нем опьяняющим звоном. Временами ему кажется, что Анчи уснула; он умолкает, пока блаженный, сонный вздох на его плече не доказывает, что его слушают внимательно.
Потом Анчи выпрямилась, сложила руки на коленях и задумалась.
— Не знаю, не знаю, — томно сказала она, — никак не могу поверить, что это — правда…
По небу светлой черточкой скатилась звезда. Благоухает жасмин, спят закрывшиеся шары пионов, дыхание неведомого божества шелестит в вершинах деревьев.
— Как бы мне хотелось остаться здесь, — шепнула Анчи.
Еще раз пришлось Прокопу выдержать безмолвный бой с искушением.
— Спокойной ночи, Анчи, — заставил он себя сказать. — Что, если… если вернется ваш папа?..
Анчи послушно встала.
— Доброй ночи. — Она еще колебалась.
Так стояли они лицом к лицу и не знали, что начать… или кончить. Анчи была бледна, глаза ее растерянно моргали, вся ее фигурка говорила о том, что она готова решиться на какой-то подвиг; но когда Прокоп, совсем уже теряя голову, протянул руку к ее локтю, она трусливо увернулась и пошла на попятный. Они шагали по садовой дорожке, и расстояние между ними было не меньше метра; но когда добрались до того места, где лежали самые черные тени, — видимо, потеряли направление, потому что Прокоп стукнулся зубами о чей-то лоб, торопливо поцеловал холодный нос и нашел своими губами отчаянно сжатый рот; и он грубо разрыл его, ломая девичью шею, раздвинул стучащие зубы и иступленно стал целовать жаркие, влажные, раскрытые, стонущие губы. Ей удалось вырваться, она отошла к калитке и заплакала. Прокоп бросился утешать ее, он гладит ее, рассеивает поцелуи по волосам, по уху, по шее, спине, но ничто не помогает; он молит, поворачивает к себе мокрое личико, мокрые глаза, мокрый всхлипывающий рот — его губы полны соленой влаги слез, а он все целует и гладит — и вдруг чувствует, что она уже ничему не сопротивляется, она отдалась на его милость и, наверное, плачет над своим страшным поражением. Тогда в Прокопе разом проснулась вся мужская рыцарственность, он выпустил из рук этот жалкий комочек и, растроганный до слез, только целует дрожащие, смоченные слезами пальцы. Вот так, так-то лучше… И тут она прижимает свое лицо к его грубой лапе, целует ее влажными, обжигающими губами, ласкает горячим дыханием, трепетными, мокрыми ресницами — и не дает, не отпускает его руку. Тогда и он заморгал часто, затаил дыхание — чтобы не задохнуться от мучительной нежности.
Анчи подняла голову.
— Доброй ночи, — сказала она тихо и очень просто подставила губы.
И Прокоп склонился над ними, поцеловал, как дуновение ветерка, нежно, как только умел, — и не осмелился провожать ее дальше; постоял в каком-то оцепенении, потом побрел совсем на другой конец сада, куда не проникает ни один лучик из Анчиного окна; и там он стоит, словно молится. Но нет, это не молитва — это всего лишь прекраснейшая ночь его жизни.
Едва рассвело — Прокоп не мог больше выдержать дома: решил сбегать нарвать цветов. Положить их у порога Анчиной спальни, и когда она проснется… Окрыленный радостью, выбрался Прокоп из дома чуть ли не в четыре часа утра. Люди, какая красота! Всякий цветок искрится, как глаза (а у нее — спокойные большие глаза телки… у нее такие длинные ресницы… сейчас она спит, и веки у нее выпуклые и нежные, как голубиные яйца… господи, знать бы ее сны… если руки ее сложены на груди — их приподымает дыхание; если они под головой, тогда, наверное, соскользнул рукав и виден локоток — розовый твердый шарик… недавно она говорила, что до сих пор спит в железной детской кроватке… говорила, что в октябре ей исполнится девятнадцать, на шее у нее — родимое пятнышко… возможно ли, что она меня любит, это так странно) — и в самом деле, ничто не сравнится красотою с летним утром, но Прокоп не отрывает глаз от земли, улыбается в меру своего уменья и через множество калиток добирается до реки. И там, только у противоположного берега, обнаруживает бутоны кувшинок; пренебрегая всеми опасностями, он снимает одежду и бросается в густую слизь заводи, ранит ноги о какие-то коварные острые листья, но возвращается с охапкой цветов.
Кувшинки — цветы поэтичные, но они пускают отвратительный сок из мясистых стеблей; и Прокоп бежит со своей поэтичной добычей домой, соображая, чем бы обернуть стебли букета. Ага, вон на лавочке у дома доктор забыл вчерашнюю «Политику»[117]. Прокоп весело рвет ее, прочитывая мимолетно о какой-то балканской мобилизации, о том, что где-то пошатнулось министерство и что умер кто-то, изображенный в черной рамочке, — умер, оплакиваемый, разумеется, всей нацией. Вот уже обернуты мокрые стебли, и Прокоп залюбовался делом рук своих; и тут его будто сильно толкнуло в грудь: на газетной обертке он увидел одно-единственное слово. Это слово было: КРАКАТИТ.
С минуту Прокоп неподвижно глядел на него, попросту не веря глазам. Потом с лихорадочной поспешностью развернул газету, рассыпав роскошные цветы, и наконец нашел следующее объявление: «КРАКАТИТ! Прошу инж. П. сообщить свой адрес. Карсон, Гл. почтамт». И ничего больше. Прокоп протер глаза и перечитал: «Прошу инж. П. сообщить свой адрес. Карсон». Что за дьявольщина… Кто такой Карсон? И откуда он знает, гром и молния, откуда может он знать?.. В пятидесятый раз перечитывал Прокоп загадочное объявление «КРАКАТИТ! Прошу инж. П. сообщить свой адрес». И дальше: «Карсон, Гл. почтамт». Больше ничего и не вычитаешь.
Прокоп сидел, словно оглушенный дубиной. «Зачем, зачем я взял в руки эту проклятую газету», — с отчаянием промелькнуло у него в голове. Как это там написано? — «КРАКАТИТ! Прошу инж. П. сообщить свой адрес». Инж. П. — это он, Прокоп, а кракатит — то самое проклятое место, то неясное, затуманенное место в его мозгу, та болезненная опухоль, то, о чем он не осмеливался думать, с чем он ходил, биясь головой об стену, то, что уже утратило название — как тут написано? «КРАКАТИТ»! Внутренний толчок заставил Прокопа широко раскрыть глаза. Внезапно он увидел… увидел ту самую соль свинца, и разом в его памяти развернулся путаный фильм: нескончаемая, яростная борьба в лаборатории с этим тяжелым, тупым, инертным веществом; бессмысленные опыты вслепую, когда ничто не удавалось, пощипывание в пальцах, когда он в бешенстве ломал и дробил это вещество руками, кислый привкус на языке, едкий дым, усталость, от которой он засыпал, сидя на стуле, стыд, упрямство, и вдруг — во сне, что ли, последняя идея, эксперимент, парадоксальный и чудесно простой, физический трюк, которым он до того ни разу не пользовался. Увидел тончайшие белые иголочки, которые он смел наконец в фарфоровую банку, уверенный, что завтра произведет славный взрыв там, в песчаной яме, в поле, где находился его весьма незаконный опытный полигон. Увидел свое кресло в лаборатории, из которого вылезал волос и пружины; он рухнул тогда в это кресло, как измученный пес, и, вероятно, уснул, ибо вокруг стояла полная тьма — и вдруг ужасающий взрыв, звон стекла, и он летит вместе с креслом на пол. А потом — резкая боль в правой руке — чем-то ее поранило; а потом — потом…
Прокоп наморщил лоб — столь стремительное возвращение забытого причиняло ему боль. Ну да, вот он, этот шрам, через всю ладонь. Потом я хотел зажечь свет, но все лампочки полопались. И я шарил на ощупь в темноте, стараясь понять, что произошло: на столе груда осколков, а там, где я работал, цинковая пластина порвана, перекручена, спеклась, дубовая столешница расколота, словно в нее ударила молния. Потом я нашарил ту фарфоровую баночку, и она оказалась цела — и только тогда я ужаснулся. Ну да, ну да, это и был кракатит. А потом…
Прокопу невмочь было сидеть; он переступил через рассыпанные кувшинки, заметался по саду, кусая от волнения пальцы. А потом я бежал куда-то, через поле, через вспаханное поле, несколько раз падал — господи, где же это было? Здесь связность его воспоминаний была основательно нарушена; несомненной была только страшная боль под лобными костями да какие-то дела с полицией. Потом я разговаривал с Иркой Томешем, и мы отправились к нему — нет, мы поехали на извозчике; я был болен, и он за мной ухаживал. Ирка — славный парень. Но, ради бога, что было дальше? Ирка Томеш сказал, что едет в Тынице, к отцу, но сюда он не приезжал; вот оно что, как странно… а я в это время спал, кажется…