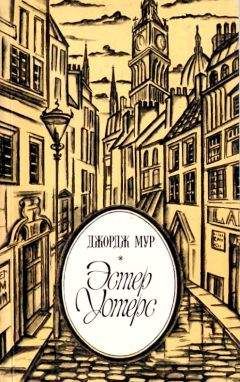— Как это не изменяла! Зачем ты так говоришь? Разве я не рассказывал тебе, как накрыл их, когда приехал из Аскота?.. Да она же сама призналась во всем. Каких еще доказательств тебе нужно?
— Ну, так или иначе, их у тебя, значит, нет. Так что ты собираешься делать? Ждать, пока опять накроешь ее с поличным?
— Да… больше ничего не остается, разве что только… — Уильям умолк и отвел глаза в сторону.
— Разве что?
— Да вот, понимаешь, мой адвокат разговаривал с ее адвокатом, и ее адвокат сказал, что если все обернуть наоборот, что если я дам ей повод требовать развода, она с охотой этим воспользуется. Он-то больше ничего не сказал, но я потом повидался с женой, и она сказала, что, если я дам ей основание для получения развода, она не только сама будет о нем хлопотать, но и готова оплатить все издержки, и мне это не будет стоить ни пенса. Что ты на это скажешь, Эстер?
— Я что-то не очень понимаю. Или ты, значит…
— Видишь, Эстер, для того чтобы получить развод… Нас тут никто не может подслушать?
— Нет, в доме сейчас, кроме меня и хозяйки, нет ни души, а она в своем кабинете, сидит читает. Продолжай.
— Получается, понимаешь, что один из супругов должен открыто находиться с кем-то в сожительстве, для того чтобы второй из супругов мог потребовать развод. Понятно тебе?
— Уж не хочешь ли ты сказать, что я теперь понадобилась тебе как сожительница, чтобы ты мог бросить меня еще раз?
— Ладно, Эстер, чепуху ты мелешь и сама это знаешь.
— Если это все, что ты собирался мне сказать, так вот бог, а вот порог.
— Но ведь нужно же подумать и о ребенке, и ты хорошо знаешь, Эстер, что теперь тебе опасаться нечего. Ты не хуже меня понимаешь, что на этот раз я намерен поступить с тобой честно. Да и раньше этого хотел. Ну, кто старое помянет, тому глаз вон, а я знаю, что ты сама хочешь, чтобы у ребенка был отец, так что, хотя бы ряди сына…
— Ради сына? Вот это мне нравится! Можно подумать, что я еще мало для него делала! Можно подумать, что я не работала ради него, как каторжная, и не ходила в отрепьях! Да я чуть не подохла, — вот чего стоил мне этот ребенок. А ты что сделал для него? Ну-ка скажи? Да он тебе ни единого пенни не стоил — разве что игрушечный кораблик да вельветовый костюмчик, — а теперь ты заявляешься ко мне и говоришь… Нет, послушать только, чего от меня хотят! Выходит, женщина никогда не может позаботиться о самой себе? Я уж, значит, не человек? Ради ребенка, слыхали! Да кто бы еще так говорил, а уж только не ты. Ну, а я-то что ж, позволь тебя спросить? Кто я-то, по-твоему? Сколько лет я отдувалась за все одна. Так кто же я теперь? Вот что хотелось бы мне знать.
— Зачем ты так горячишься, Эстер? Я знаю, что тебе туго пришлось, знаю, что все с самого начала сложилось очень плохо для тебя. Но к чему говорить, что я опять тебя брошу, когда ты не хуже меня знаешь, что этого не будет. Ты вправе отказаться, воля твоя, поступай как знаешь. Нельзя требовать от тебя, чтобы ты снова жертвовала собой ради ребенка. Тут я с тобой согласен. Но если я пришел сказать тебе, что другого способа получить развод нет, это еще не причина так на меня набрасываться.
— Кто тебе мешает найти себе какую-нибудь другую женщину — вот и получишь развод.
— Конечно, я могу это сделать, но я считал, что прежде мне следует обсудить все с тобой. Ведь если я сойдусь с другой женщиной, не очень-то будет красиво с моей стороны покинуть ее, после того как я разведусь.
— Меня же ты покинул.
— Ты опять за старое.
— Для меня это не старое. Это вся моя жизнь, а она еще покамест не пришла к концу.
— Но зато, если ты сделаешь то, о чем я прошу, все сразу придет к хорошему концу.
Помолчав, Эстер сказала:
— Я не понимаю, с чего ты вообще надумал разводиться. Небось жена примет тебя обратно, стоит тебе только попросить.
— Она не рожает детей и никогда не будет рожать, а без детей что ж это за брак, все хлопоты и заботы — к чему все это? Зачем жениться, если не для того, чтобы иметь детей? Без детей счастья не будет. Я уже все перепробовал…
— Ну, а я нет.
— Я знаю. Знаю, как тебе лихо пришлось, Эстер. У меня сейчас была удачная неделя в Донкастере, я выиграл, и теперь денег хватит, чтобы откупить долю у моего компаньона. Тогда весь домик будет наш, и, мне думается, мы вдвоем сумеем повести дело неплохо, а со временем все это перейдет к сыну. Я говорил тебе, что мне везло на скачках, но, если хочешь, я это брошу. Не поставлю больше ни на одну лошадь. Ну, думается, я все сказал. Что я могу еще предложить тебе, Эстер? Скажи, что ты согласна. Согласна, да? — И Уильям попытался ее обнять.
— Убери руки, — сердито сказала Эстер и с таким угрюмым видом отодвинулась от него, что он совсем было потерял надежду, что ему когда-нибудь удастся ее уломать.
— Полно тебе, Эстер… — сказал Уильям и осекся. Он почувствовал, что спорить с ней бесполезно.
Оба молчали. Наконец Уильям сказал, глядя на красноватый огонек свечи:
— Ты — мать моего сына, так что это совсем особое дело. А подавать мне совет сожительствовать с кем-то еще — вот чего уж я никак не ждал от такой набожной девушки, как ты.
— Набожной? Там, где я работала, не очень-то много времени оставалось для молитв. — И тут ей вспомнился Фред, и она добавила, что зато теперь ее возвратили к Христу, и Он, может быть, простит ей ее прегрешения.
Уильяму хотелось, чтобы она побольше рассказала о себе, и он заметил, что хватало у нее времени для церкви или не хватало, а только она все равно осталась такой же суровой недотрогой, как прежде.
— Что ж, если ты не хочешь выходить за меня замуж, я могу сказать только одно: очень жаль, но это никак не помешает мне платить раз в неделю за содержание и обучение Джекки столько, сколько ты положишь. Мой сын теперь не будет стоить тебе ни пенни. Мне хотелось бы еще больше позаботиться о мальчике, но этого я не могу, пока ты не сделаешь меня по закону его отцом.
— А для этого я должна поселиться у тебя и жить с тобой? — Внезапно при этих словах в глазах ее невольно вспыхнул огонек желания.
— Да, и через полгода ты станешь моей законной женой… Соглашайся.
— Я не могу… не могу. Не проси меня.
— Ты не Доверяешь мне? Боишься? Так, что ли?
Эстер не отвечала.
— Это тоже можно уладить. Я положу пятьсот фунтов на твое имя для тебя и для ребенка.
Эстер подняла на него глаза. В них опять зажегся этот огонек, но была в них и нежность, неожиданно закравшаяся в ее сердце. Она стояла, опершись о стол. Уильям присел на край стола и обнял ее за талию.
— Ты же знаешь, что я хочу поступить с тобой по чести, по совести.
— Да, вроде бы…
— Так соглашайся.
— Не могу — теперь уже поздно.
— У тебя есть другой?
Она кивнула.
— Я так и думал. Ты любишь его?
Эстер промолчала.
Уильям притянул ее к себе. Она не сопротивлялась. Он увидел, что она плачет. Он поцеловал ее в шею, затем в щеку и все спрашивал, любит ли она того, другого. Наконец она отрицательно покачала головой.
— Тогда скажи «да».
— Не могу, — пробормотала она.
— Можешь, можешь, можешь! — Он снова стал целовать ее, повторяя между поцелуями: — Можешь, можешь, можешь! — Это звучало как заклинание или крик попугая. Минуты текли; оплывшая свеча угасала, потрескивая.
Эстер сказала:
— Пусти меня. Дай-ка я зажгу лампу.
Отыскивая спички, она взглянула на часы.
— Как поздно-то! А я и не думала…
— Скажи «да», и я уйду.
— Не могу.
Вынудить у нее обещание было невозможно.
— Я очень устала, — сказала она, — Оставь меня.
Он снова обнял ее и сказал, целуя:
— Моя дорогая женушка.
Когда он поднимался по лестнице в палисадник, она вспомнила, что однажды уже слышала от него эти слова. Она старалась вызвать в памяти образ Фреда, по широкие плечи Уильяма заслонили от нее маленькую, тщедушную фигурку. Она вздохнула и снова, как прежде когда-то, почувствовала себя во власти какой-то непонятной силы, которой не могла противостоять.
Эстер обошла дом, запирая двери, задвигая засовы, проверяя, чтобы все было надежно закрыто на ночь. Мучительные мысли одолевали ее. Возле лестницы наверх она остановилась и прикрыла рукой глаза. Она чувствовала себя несчастной, необъяснимая тоска раздирала ей сердце, и она не могла справиться с этой тоской. Она сознавала, что жизнь оказалась сильнее ее, что она не может повернуть ее по-своему, и ей уже словно бы и безразлично было, что с ней теперь станет. Она мужественно боролась с враждебной судьбой и часто выходила победительницей из этой борьбы; она одержала бессчетное количество побед над собой, а сейчас почувствовала вдруг, что у нее уже не хватает сил на решающую схватку; у нее не было даже сил корить себя, и, размышляя над тем, как могла она позволить Уильяму целовать себя, испытывала только удивление. Она не забыла, какую ненависть питала к нему все эти годы, а теперь ненависти не стало. Она не должна была разговаривать с ним, а главное — не должна была показывать ему сына. А могла ли она этого не сделать?