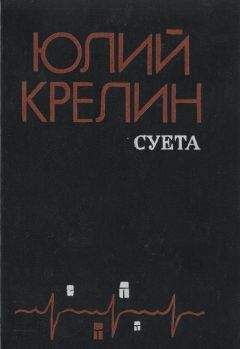Работа движет тобой, а не ты ею. Порой говоришь картинно: «Неохота мне что-то сегодня оперировать». И все равно идешь. Куда деться? Ты только это и умеешь — не будешь делать, что умеешь, сгниешь от бездействия. А со стороны кажется — активный, энергичный и решительный.
А вот скажешь: «Неохота идти в магазин» — и не идешь. Действительно неохота, лень. Тут как раз впору сказать: ах, как он далек от жизни, не от мира сего, непрактичен! Быть непрактичным иные считают высшим шиком. «Житейский ум» — уничижение. Легко его презирать, когда он есть. А если нету… На деятельного хирурга вроде меня полезно посмотреть в двух условиях, например, дома. Или когда надо писать годовой отчет. Или проявить активность в доставании чего-нибудь, вот как сейчас.
Некстати вспомнил про отчет. Смерть как неохота этим заниматься. Цифры, цифры, сколько операций, сколько осложнений, какой план, какой процент. Запланировано, чтоб каждая койка в году работала, допустим, триста двадцать дней. А нам навезли за год, вне зависимости от наших желаний и возможностей, столько больных, что получается мистическая ситуация — койка в году работает, скажем, четыреста дней. Вот и пиши эти абсолютно реальные и вполне невозможные отчеты. Тут встречный план может быть только в сторону уменьшения. Все идет само собой, как и моя хирургическая якобы активность: мы не хотим, никто не хочет, но все могут. Ни начальству, ни больным не нужно план перевыполнять, а он перевыполняется. Вот только одно перевыполнить нельзя: смертность на нашей планете всегда будет стопроцентная. Сколько родилось, столько и умрет — ни больше ни меньше. Тут уж Госплан — в смысле господьплан — не требует и не признает никаких изменений и уточнений.
Уж сколько дней живу без болей. Радоваться бы надо, а я… Если нет таких болей, чтоб выше себя прыгать, значит, не от камня. Если не от камня — так от чего? Вот главный вопрос.
Златогуров должен быть примером для меня. Как перенес послеоперационный период! Чуть легче стало — и готов был взорваться от избытка энергии. Оставалось только гадать, что сегодня отчудит Лев Романович — то ли возглавит круговую оборону отделения, то ли телефон к себе в палату проведет, то ли вместе с кислородом наладит подачу пепси-колы. Слава богу, выписали его.
Несмотря на гиперактивность, Романычу не откажешь в известной деликатности. Ко мне в кабинет с разговорами не являлся, один только раз пришел, увидел тут же, что нет перекидного календаря, и назавтра сей атрибут деловой жизни оказался у меня на столе. Передал через старшую сестру, уважая субординацию: к начальству лишний раз без вызова не ходят. Директор! Он порядок понимает, деликатность тут ни при чем.
Хорошо еще, что он не знал всех моих забот с сыном, а то бы тоже включился помогать и советовать. Вот сейчас Виталик уроки делает, а я за другим столом делаю вид, что работаю. Иного пути нет. Лениться — для парня дело святое, тем более для сына ленивого человека. Все нормально. Заниматься с ним не надо — он и сам может. Но личным примером я загоняю его за стол. При мне он не отвлекается — пишет, читает. А думает ли о том, что делает, я проверить не в силах.
Нынешний школьный уровень физики, математики для меня столь же недоступен, как для него хирургия. Хотя мое дело проще для понимания. Сосудистая хирургия — это, в конце концов, простая механика: обойдет кровь запруду, препятствие — будет нога. Не наладишь ток — гангрена, отрежем ногу. Все просто. Вот только не уверен, правильно ли я понимаю, что такое механика. А у него в тетрадке какие-то неправильные кружочки; спрашиваю, что это, а он, словно Лобачевский какой, небрежно бросает: «Теория множеств». С тех пор не спрашиваю, просто сижу рядом и тоже чем-нибудь занимаюсь. В конце концов, мое дело сторона, у него мать педагог, но ее стихия — математика, а не воспитание, между нами говоря. Не справляется она с Виталиком.
Пока я сижу — и он сидит.
Стараюсь внушить ему только самые общие вещи: школа не может выучить всему, школа должна научить работать. Пока не научишься работать сам, без палки, ни за что не поймешь, что нравится и чего тебе хочется. И прочее в таком духе. А то — «теория множеств»! Смешно. А он, наверное, и не понимает, что несет отец, думает, родительская благоглупость. Близкие поколения понимают друг друга хуже, чем отдаленных своих предков.
Понимание — редкая роскошь в наши дни. Вот Егор, скажем, понимает он меня? Разумеется, понимает. Не ребенок. А я вот не пойму, что там у них с Ниной. Он ее вроде любит. А она?.. То ли это всего лишь благодарность за любимого Полкана, то ли вообще она крайне далека от такого понятия, как любовь… Столько лет одна, зациклилась на себе да на собаке своей. Чтобы так любить собак, кто-то съязвил, надо очень мало любить людей. Для чего живет? Выходной день, например. Утром встала — иди с Полканом. Гуляет, скажем, час. А дальше? Три часа обед готовит, убиться можно. А потом? Потом за десять минут съедает все? Ну ладно, пусть даже она кейфует за обедом, полчаса длится обеденное сибаритство. Не больше же! Сама себе варит, сама себе стол сервирует, подает сама и сама с собой разговаривает. Или с псом. Просто, наверное, я другой и этого не понимаю. А для них, может, наша с Валей жизнь — кошмар и сплошной конфликт: конфликт отцов и детей, конфликт полов, конфликт желаний…
По моему разумению, ей бы ухватиться за Егора зубами и когтями вместе со своим Полканом да на полшага от себя не отпускать. А тут еще и спасибо надо говорить, когда с моськой погулять разрешила. Оставалась бы со своим псом и со своим аппендицитом.
А с другой стороны, есть в этом какое-то проявление человеческой основательности, надежности. Ведь действительно не схватилась зубами и когтями! Может, раздумывает, примеряется, собирается с силами?
Основательность… Кому она нужна, эта основательность? Синоним ограниченности, отсутствия широты. С ней только и видишь, что перед тобой да впереди на шаг. Основательность и любовь несовместимы. Любви полет и легкость нужны.
Господи, сколько же можно мусолить одно упражнение? Учебник по географии еще не открывал. А мне, если сказать честно, ужасно хочется телевизор включить, расслабиться…
Златогуров еще не приспособился к своей машине, которую переделали под ручное управление. На большие расстояния не ходил, и никаких неприятных ощущений в ногах, напоминавших о прошлых муках, у него сейчас не было. Понимал, что болезнь осталась, но признаки ее, симптомы ушли; а тогда какая разница, есть эти самые склеротические бляшки или нет. Теоретически они есть у всех после тридцати пяти лет. Как говорится, было бы здоровье, а нездоровья он сейчас не чувствовал. Пусть вылечить не могут, главное — не чувствовать. С другой стороны, чувствуешь — следовательно, существуешь. Болит — следовательно, чувствуешь… Златогуров слишком много размышлял о своей болезни и в конце концов запутался. Хорошо, если бы больные не думали о своих болезнях, но такое невозможно.
Наверное, надо научиться делать вид. Тут уж характер, темперамент подсказывают линию поведения. Во всяком случае, Лев Романович на сегодняшний день мог принимать участие в жизни в полном, привычном для него объеме. Он ездил на машине, работал, выступал на совещаниях, делал все, к чему вынуждала его жизнь, даже пил и курил. Сегодня в своей жизни он был «задействован» на все сто процентов. Ему так сносно жилось, что он даже почти перестал набиваться всем и каждому с предложениями о всесторонней помощи. Но поскольку в характере его все же такая жилка существовала, новый приступ болезни грозил обострить златогуровский альтруизм. Человек познается в болезни.
Машину удалось поставить поближе к подъезду. Конечно, Лев Романович был в силах пройти и большее расстояние, чем от законной стоянки, но не использовать знак на заднем стекле, говорящий о ручном управлении, казалось просто кощунственным. Свыше его сил было не использовать то, чего нет у всех, а он сумел себе сработать. Он и позабыл, вернее, хотел бы забыть о причине этого своего успеха. Правда, заслуга его несомненна — полных оснований, полного права на инвалидность он еще не выработал, не нажил себе. Лев Романович бежал впереди своего свиста.
Машину он поставил там, где ставить нельзя, так как понимал, что ни один милиционер не осмелится снять номер с автомобиля, на котором знак «Р». Разве что выродок какой. Лев вышел из машины, открыл дверцу, подал руку Рае. Проверил, закрыто ли, и они неторопливо вошли в здание концертного зала, где сегодня был вечер старинного романса.
Концерт был в ранге дефицита. Ни Лев Романович, ни Рая не были большими любителями романса, как и вообще театрально-концертной жизни, но трудность с билетами гарантировала, что будет возможность показаться сразу многим людям из тех, что могли Златогурова списать со счетов в связи со слухами о его болезни. Лев должен был им показать себя.
Палку он в машине не оставил, торжественно опирался на нее до самого гардероба, однако необходимость продемонстрировать себя в полном цвете здоровья вынудила сей величественный символ недуга сдать в раздевалку вместе с плащом.