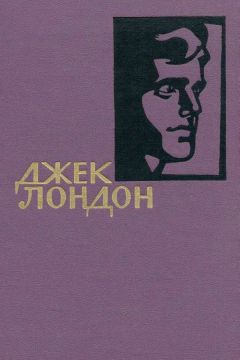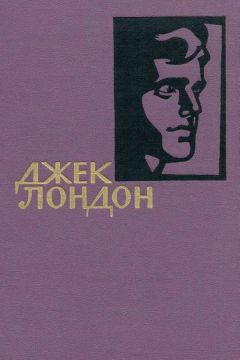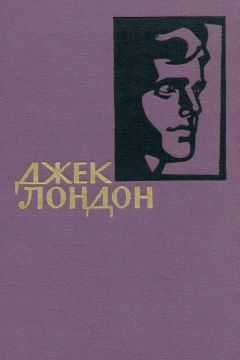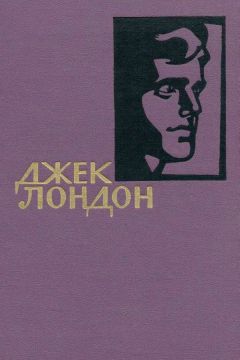Я ходил среди них и пугал их рассказами о всяких таинственных и непонятных вещах, которые бывают в жизни, о мертвецах, что приходят и уходят, как тени, и совершают злые дела. Охваченные ужасом, все сбились в кучу, как маленькие дети, боящиеся темноты. Нивак стал говорить, что зло пришло к нам из хижины Муусу. И от этих слов люди как взбесились, схватили копья, моржовые клыки и дубины, стали собирать на берегу камни. Муусу убежал домой, а так как он не пил самогона, то они не могли поймать его, только топтались на одном месте и мешали друг другу. И сейчас еще народ вопит около его хижины, а жены Муусу орут внутри, и из-за шума нельзя услышать его голоса...
— Ну, Ангейт, ты отлично все исполнил,— похвалил я его.— Теперь возьми эти нарты и тощих собак и быстро мчись к Муусу. И раньше, чем пьяный народ сообразит, в чем дело, хватай его и вези ко мне...
В ожидании Муусу я дал несколько добрых советов моим друзьям, а тем временем вернулся Ангейт. На нартах сидел Муусу, и по царапинам на его лице видно было, что жены задали ему изрядную трепку. Он соскочил с нарт и упал с плачем к моим ногам:
— О господин, ты простишь Муусу, слуге своему, все то зло, что он творил. Ты великий человек, ты простишь...
— Зови меня братом, Муусу, зови меня братом,— посоветовал я и поднял его на ноги, ткнув носком своего мокасина.— Будешь теперь повиноваться мне?
— Да, господин,— хныкал он. — Всегда, всегда!
— Тогда ложись поперек нарт.— Я взял бич в правую руку.— Ложись лицом вниз. Поторапливайся, потому что сегодня мы отправляемся в путь, на юг...
Когда он растянулся как следует, я стал стегать его, перечисляя при каждом взмахе бича все неприятности, которые он мне причинил.
— Вообще за непослушание — раз! За непослушание в частности — два! За Исанитук — три! А это для спасения души! Это за Клукту! Это за захват власти! За права, данные тебе богом! А это за тучных агнцев! А это и это за подоходный налог и притчу о хлебах и рыбах! А это за все твое непослушание! И напоследок — вот тебе еще! Это для того, чтобы ты впредь был благоразумнее и понятливее! А теперь перестань скулить и вставай! Становись на лыжи и иди вперед — прокладывать тропу собакам! Ну, тронулись! Вперед!
Томас Стивенс тихонько улыбался про себя, куря пятую сигару и посылая кольца дыма к потолку.
— Ну, а как же жители Таттарата? — спросил я.— Пожалуй, жестоко было с вашей стороны оставить их умирать с голоду.
И он со смехом ответил между двумя затяжками:
— Разве там не было жирных собак?
Так уж повелось, что всякий рассказ из жизни золотоискателей — а это гораздо более правдивая история, чем может показаться,— непременно должен быть рассказом о невезении. Впрочем, все зависит от того, как смотреть на вещи. Кинку Митчеллу и Хутчину Биллу, например, слово «невезение» показалось бы слишком мягким. А что у них сложилось весьма определенное мнение на этот счет, известно всем на Юконе.
Осенью 1896 года два товарища вышли на восточный берег Юкона и вытащили из поросшего мхом тайника узкую канадскую байдарку. Вид у них был не слишком привлекательный. Худые, изможденные, и оборванные, возвращались они после целого лета, проведенного в разведывательных работах,— лета полуголодного и полного лишений. Тучи комаров звенели над ними, окружая, словно нимбом, их головы. Лица у них были покрыты густым слоем голубоватой глины. Они держали наготове по комку этой сырой глины, нашлепывая свежие кусочки на те места, где она, высыхая, отваливалась. Раздражение и недовольство, прорывавшиеся в голосе, да преувеличенная резкость движений и жестов говорили о беспокойных ночах и бесплодной борьбе с крылатыми полчищами.
Течение подхватило нос байдарки, и она оторвалась от берега.
— Эти комары меня в гроб вгонят!—простонал Кинк Митчелл.
— Не унывай, парень, мы уже почти на месте,— отвечал Хутчину Билл с деланной бодростью, от которой его голос приобрел еще более похоронный оттенок.— Через сорок минут мы причалим к Сороковой Миле, и тогда... А, черт!
Придерживая весло одной рукой, он звонко шлепнул себя другой по шее и, неистово ругаясь, наложил кусок сырой глины на свежий укус. Кинку Митчеллу было не до смеха. Глядя на товарища, он обмазал себе шею толстым слоем глины.
Они поплыли поперек русла, а затем повернули лодку и, легко работая веслами, пустились вниз по течению, вдоль западного берега. Через сорок минут они обогнули островок и поплыли, почти касаясь левым бортом берега. Перед ними внезапно возник поселок Сороковая Миля. Разогнувшись и перестав грести, они глядели на картину, которая представилась их глазам. Они вглядывались долго и внимательно, предоставив лодку течению, и лица их выражали недоумение, постепенно переходившее в ужас. Ни струйки дыма над поселком, а ведь в нем было несколько сот бревенчатых хижин! Ни свиста топора, с размаху врезающегося в дерево, ни скрежета пилы, ни стука молотка. Возле лавки — ни собак, ни людей, которые обычно слонялись здесь во всякое время. У берега ни одного парохода, ни одной лодки, ни одного плота. Ни суденышка на реке, ни признака жизни в селении.
— Похоже, что тут архангел Гавриил протрубил в свою трубу, а мы с тобой опоздали явиться,— заметил Хутчину Билл.
Он сказал это так равнодушно, словно в том, что они увидели, не было ничего необычайного. А Кинк Митчелл ответил ему в тон, точно и он не испытывал никакого смятения.
— Да, и все сделались баптистами, забрали лодки и решили ехать на страшный суд по реке,— сказал он, подхватывая шутку товарища.
— Мой старик был баптист,— продолжал Хутчину Билл,— и уверял, что водой туда ехать на сорок тысяч миль ближе, чем сушей.
Впрочем, им было не до шуток. Они пристали к берегу, вышли из лодки и взобрались на крутой откос. Когда они очутились на пустынных улицах, им стало жутко.
Над поселком мирно светило солнце, легкий ветерок хлопал канатом флагштока перед закрытыми дверьми дансинга «Каледония». Звенели комары, пели зорянки, прыгали голодные воробьи в поисках пищи. И ни малейшего признака человеческой жизни кругом.
— Смерть как пить хочется! — сказал Хутчину Билл, невольно понижая голос до хриплого шепота.
Его товарищ только молча кивнул в ответ, словно боясь услышать звук собственного голоса в этой тишине. Так брели они в тревожном молчании и вдруг очутились перед распахнутой настежь дверью. Над нею, вдоль всей стены, тянулась грубо размалеванная вывеска с надписью «Монте-Карло». А у двери, надвинув шляпу на глаза, откинувшись на спинку стула, сидел какой-то человек и грелся на солнце. Это был старик. Длинные седые волосы и борода придавали ему патриархальный вид.
— Да это никак старый Джим Каммингз! Видно, и он опоздал на страшный суд,— сказал Кинк Митчелл.
— Не слыхал, должно быть, как архангел Гавриил дудел в трубу,— прибавил Хутчину Билл.— Эй, Джим! Проснись!—окликнул он старика.
Тот встал со стула, припадая на одну ногу, и, моргая спросонок глазами, машинально забормотал:
— Какого прикажете налить, ребята, какого налить?
Они вошли за ним в дом и стали рядом у длинной стойки, за которой обычно полдюжины расторопных буфетчиков еле поспевали обслужить посетителей. В большом зале, всегда таком оживленном и шумном, стояла унылая, кладбищенская тишина. Не побрякивали фишки, не катились с легким жужжанием костяные шары. Столы для игры в рулетку и фараон были накрыты чехлами и казались могильными плитами. Из соседней комнаты, танцевального зала, не доносились веселые женские голоса.
Старый Джим Каммингз, взяв в свои дрожащие руки стакан, вытер его, а Кинк Митчелл начертал свои инициалы на пыльной стойке.
— Где же девушки? — крикнул Хутчину Билл деланно-веселым голосом.
— Уехали,— отвечал старый буфетчик. Голос его был такой же старый, как сам он, и такой же дрожащий и неуверенный, как его руки.
— Где Бидуэлл и Барлоу?
— Уехали.
— А Сиутуотер Чарли?
— Уехал.
— А его сестра?
— Тоже.
— Ну, а твоя дочь Салли с малышом?
— Уехали, все уехали...
Старик печально покачал головой и в рассеянности принялся переставлять пыльные бутылки.
— Да куда же их всех понесло, черт возьми? — взорвался наконец Кинк Митчелл.— Чума, что ли, их отсюда выгнала?
— Так вы ничего не знаете? —Старик тихонько хихикнул.— Все уехали в Доусон!..
— Что это за Доусон такой?—спросил Билл.— Ручей, местечко или, может, какой-нибудь новый кабак?
— Да неужто вы о Доусоне не слышали? — Старик опять захихикал.— Да ведь это целый город, побольше нашей Сороковой! Да, сэр, побольше Сороковой Мили.
— Вот уж восьмой год я болтаюсь в этих краях,— с расстановкой произнес Билл,— а, признаюсь, впервые слышу про такой город. Знаешь что, налей-ка мне еще виски. Я прямо-таки обалдел от твоих новостей, ей-богу! Где же, к примеру, находится этот Доусон?