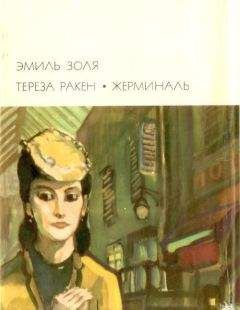— Довольно! — крикнула жена Маэ. — Загорится халупа!
— Вот и хорошо! — ответила Горелая. — Чистая будет работа!.. Ах они проклятые! Я ведь говорила, что отплачу им за мужа!
В эту минуту раздался голос Жанлена:
— Осторожней!.. Я сейчас погашу! Сразу пар выпущу!
Он прибежал одним их первых, проскользнул в толпе, радуясь этой суматохе и придумывая, что бы натворить; и ему пришла мысль открыть краны и выпустить из котлов пар. Струи пара вырвались, словно грянули выстрелы; пять котлов вмиг опустели — с воем, с шипением и свистом, с таким громовым грохотом, что ушам было больно. Все исчезло в облаках пара; раскаленный уголь потускнел; жестикулирующие женщины казались тенями. Хорошо был виден только Жанлен, — забравшись на галерею, возвышавшуюся над белой, клубившейся пеленой, он взирал на толпу с восторгом и хохотал, разевая рот до ушей, торжествуя, что ему удалось вызвать такой ураган.
Длилось это с четверть часа. На кучу горящего угля вылили несколько ведер воды, чтобы окончательно его загасить, угроза пожара была устранена, но гнев толпы не стихал, наоборот, распалился еще больше. По лестнице сбежали мужчины с молотками в руках, женщины хватали железные прутья; кричали, что нужно разбить генераторы, сломать машины, разрушить шахту.
Этьена предупредили, он прибежал вместе с Маэ. Его и самого захватывала, опьяняла эта буйная жажда мести. Все же он боролся с собой, молил и других успокоиться: ведь тросы перерезаны, топки погашены, котлы опустели, — значит, работы в шахте невозможны. Его не слушали; он видел, что опять его захлестнет эта волна, как вдруг со двора, около низкой дверцы запасного спуска, раздались крики, свист, улюлюканье:
— Долой изменников! Трусы поганые, сволочи! Долой! Долой!
Выходили углекопы, поднявшиеся из шахты по лестницам. Первые, ослепнув от яркого солнца, застыли на месте, растерянно моргая глазами. Потом тороплива двинулись вереницей, думая лишь о том, как бы поскорее выбраться на дорогу и убежать.
— Долой подлецов! Сволочи! Предатели!
Сбежались все забастовщики. В две-три минуты никого не осталось в надшахтных строениях, — пятьсот человек, явившихся из Монсу, выстроились шпалерами: пусть-ка пройдут меж двумя рядами вандамские углекопы, отступники, предатели, вероломно спустившиеся в шахту; и каждого выходившего углекопа, одетого в отрепья, покрытого черной грязью, встречали жестокими насмешками: «Гляди-ка, гляди — ножки будто кочки, а зад как бочка», «А у этого нос провалился. Скажи спасибо шлюхам из „Вулкана“», «А вон у того глаза слиплись, разлепить не может, желтым воском заросли!», «А этот-то, этот! Ну и долговязый, ну и сухопарый! Чисто жердь!» Вылезла толстая откатчица, раздался неистовый хохот: «Эй, грудастая, брюхастая, задастая!» Каждый норовил ее пощупать. Насмешки переходили в издевательства, того и гляди посыпались бы тумаки. Шествие несчастных углекопов все не кончалось, они проходили гуськом, дрожа от холода, молча сносили оскорбления, бросая исподлобья косые взгляды, втягивали голову в плечи, ожидая побоев, и с облегчением вздыхали, когда оказывались за воротами и могли наконец убежать.
— Да что ж это! Сколько их там? — воскликнул Этьен.
Он удивлялся, что углекопы все выходят и выходят, его возмущала мысль, что спустилась в шахту вовсе не горстка голодных людей, запуганных штейгерами. Значит, на вчерашней сходке в лесу ему солгали? В шахте Жан-Барт почти все вышли на работу. И вдруг у него вырвался крик негодования, он бросился к двери, увидев у порога Шаваля.
— Ах негодяй! Так вот для чего ты нас позвал?
Послышались ругательства, началась толкотня, забастовщики готовы были кинуться на предателя! Вот оно что! Вчера вместе с нами клятву давал, а нынче со всей шатией-братией в шахту полез! Посмеяться над людьми вздумал?
— Хватай его! В шахту! В шахту!
Шаваль, бледный от страха, что-то бормотал, пытаясь оправдаться. Но Этьен, охваченный, как и все, яростью, оборвал его и закричал вне себя:
— Ты хотел с нами идти, вот и пойдешь… Ну марш, гадина!
Новые крики заглушили его голос. Появилась Катрин, ослепшая от яркого солнца, замиравшая от ужаса перед исступленной толпой. Ноги ее, перебравшие каждую ступеньку ста двух лестниц, подкашивались, ладони кровоточили, она задыхалась. И вдруг мать, увидев ее, бросилась к ней, замахнулась, чтобы ее ударить.
— Ах мерзавка! И ты тоже?.. Мать подыхает с голоду, а ты ее предаешь ради любовника!
Она хотела дать дочери пощечину, но муж удержал ее руку. Но Маэ и сам был в бешенстве и, схватив Катрин за плечи, тряс ее, осыпая упреками за недостойное поведение. Они с женой потеряли голову и кричали громче всех.
При виде Катрин Этьен окончательно пришел в неистовство, он повторял:
— В дорогу! К другим шахтам! И ты тоже пойдешь с нами, мерзавец!
Шаваль едва успел взять в раздевальне свои деревянные башмаки и натянуть на себя вязаную шерстяную фуфайку. Его обступили, дергали, и он поневоле бежал вместе с другими. Катрин тоже надела башмаки, наспех застегнула у ворота старую мужскую куртку, которую носила зимой вместо пальто, и, обезумев от ужаса, побежала вслед за любовником, не желая бросать его в беде, — она была уверена, что его растерзают.
В какие-нибудь две минуты шахта Жан-Барт опустела. Жанлен, подобрав где-то пастуший рожок, дул в него, издавая хриплые звуки, как будто собирал стадо коров. Женщины — Горелая, жена Левака, Мукетта — подоткнули юбки, чтоб легче было бежать, а Левак, высоко подняв топор, вертел им, словно тамбурмажор своим жезлом. Подходили все новые люди, собралось уже около тысячи, и толпа вновь устремилась по дороге, словно разлившийся поток. Ворота оказались слишком узки; сломали забор.
— К шахтам! Долой предателей! Снимать с работы!
А в Жан-Барте внезапно настала глубокая тишина. Ни одного человека, ни единого звука. Денелен вышел из комнаты штейгеров и в одиночестве, жестом запретив следовать за ним, осмотрел, что произошло. Он был бледен, но спокоен. Сначала он направился к стволу шахты, остановившись там, вскинул глаза, долго разглядывал перерезанные тросы, — над клетью свешивались теперь бесполезные обрывки стального жгута; смертельные раны, нанесенные ему напильником, совсем еще свежие, блестели, резко отличаясь от черной его поверхности, смазанной тавотом. Затем Денелен поднялся в машинное отделение, посмотрел на неподвижный шатун, похожий на голень исполинской парализованной ноги; потрогал остывший металл и вздрогнул, словно коснулся холодного тела мертвеца. Спустился затем в котельную, медленно прошел перед угасшими топками, раскрывшими свои зияющие черные пасти, залитые водой; постучал ногой по генераторам, — они издали гулкий звук, как пустые бочки. Ну вот, все кончено! Разорения не миновать. Даже если бы сваркой починить тросы, разжечь огонь под котлами, где взять рабочих? Еще две недели забастовки, — и он банкрот! Но, удостоверившись в совершившейся катастрофе, он не испытывал ненависти к «разбойникам из Монсу», — он чувствовал всеобщую ответственность за эту беду, всеобщую вековую вину. Скоты они, конечно, но ведь они невежественны, даже читать не умеют. А живут-то как! С голоду подыхают.
IV
По равнине, белой от инея, озаренной бледным зимним солнцем, шла толпа забастовщиков, растекаясь в обе стороны от дороги по свекловичному полю.
Начиная от Коровьей развилки, Этьен вновь стал вожаком. Не останавливая идущих, он выкрикивал распоряжения, вносил порядок в шествие. Впереди бежал Жанлен и трубил в рожок; за ним, в первых рядах, шли женщины — иные были вооружены палками; жена Маэ, у которой в глазах появилось что-то дикое, казалось, искала взглядом, не появится ли вдали земля Обетованная, царство Справедливости; Горелая, жена Левака и Мукетта шли широким шагом, словно солдаты, отправившиеся на войну. В случае неприятной встречи с жандармами посмотрим, посмеют ли они напасть на женщин. Затем шли вразброд мужчины; шествие растянулось по дороге, расширяясь к хвосту, ощетинившись железными прутьями, и выше всех поднимался, поблескивая на солнце отточенным лезвием, единственный топор, которым помахивал Левак. Этьен двигался в середине процессии, не выпуская из виду Шаваля, которого он поставил впереди себя; а Маэ, шагая позади него, бросал мрачные взгляды на Катрин — она была единственной женщиной в толпе мужчин и упорно семенила вслед за любовником, боясь, как бы с ним не расправились. Многие шли с обнаженными головами, и ветер трепал их волосы; все молчали, слышался только быстрый топот деревянных башмаков, словно бежало по дороге стадо, подгоняемое раскатами пастушьего рожка Жанлена.
Но вскоре вновь раздался крик:
— Хлеба! Хлеба! Хлеба!
Был уже полдень. За полтора месяца забастовки люди изголодались. В этом походе среди полей голод терзал их с особой силой. Утром кто съел сухую корку хлеба, кто несколько каштанов, принесенных Мукеттой. Но это было давно, а сейчас у всех нестерпимо сосало под ложечкой, и муки голода увеличивали злобу против предателей.