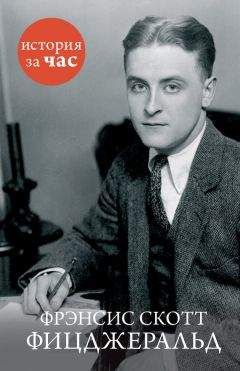Ш а н д е л ь. Господа, становится уже поздно. Мне пора. Пейте сколько хотите. (Воодушевленно.) Пейте, пока у вас не начнут заплетаться язык и ноги, до потери сознания. (Бросает чек на стол.)
Д е с т а ж. Эй, юноша!
Шандель надевает пальто и цилиндр. Питу приносит вино и наполняет бокалы.
Л а м а р к. Выпейте с нами еще, мсье.
Ф р а н с у а (во сне). Тост, Шандель, скажи тост.
Ш а н д е л ь (поднимает бокал). Тост.
Лицо его слегка раскраснелось, а рука не очень крепка. Теперь он кажется гораздо в большей степени галлом, чем когда вошел в погребок.
Ш а н д е л ь. Я пью за того, кто мог бы стать всем и был ничем, кто умел петь, но только слушал, кто мог видеть солнце, но лишь глядел на угасающие угли, кто носил на челе лишь тень лаврового венка…
Остальные встают, даже Франсуа, которого неодолимо качает.
Ф р а н с у а. Жан, Жан, не уходи… не надо… пока я, Франсуа… ты не можешь меня оставить… я буду так одинок… одинок… одинок (Голос его становится все громче.) Господи! Парень, как ты не понимаешь, ты не имеешь права умирать. Ты — моя душа.
Какое-то мгновенье он стоит, а потом валится поперек стола. Вдалеке сквозь сумерки горестно вздыхает скрипка. Последний луч заката гладит затылок Франсуа. Шандель открывает дверь и выходит.
Д е с т а ж. Прежние времена проходят мимо, и прежняя любовь, и прежний дух. Où sont les neiges d’antan?[84] Мне кажется, (неуверенно запинается, потом продолжает) я достаточно далеко продвинулся и без него.
Л а м а р к (мечтательно). Достаточно далеко.
Д е с т а ж. Твою руку, Жак! (Пожимают друг другу руки.)
Ф р а н с у а (вскидывается). Вот он — я… тоже… ты меня не оставишь. (Поникает.) Мне надо еще… всего один бокал… всего один…
Свет постепенно гаснет, и сцена исчезает в темноте.
Занавес
Четырехчасовое солнце, как обычно, нещадно палило над широко раскинувшимися окрестностями Мэриленда, выжигая бесконечные долины, припудривая извилистую дорогу светящейся мелкой пылью и сверкая в каждой черепице неказистой монастырской кровли. А на сады оно проливало жар, сушь, лень, и с нею, вероятно, приходило какое-то тихое чувство довольства, прозаическое и радостное. И стены, и деревья, и песчаные дорожки, казалось, лучились навстречу ясному безоблачному небу, возвращая ему жаркий зной позднего лета, и все же они смеялись и иссыхали радостно. Этот час дарил какое-то необъяснимое ощущение уюта и фермеру на соседнем поле, утиравшему лоб возле своей жаждущей лошади, и брату-конверзу,[86] открывавшему коробки позади монастырской кухни.
По берегу ручья бродил юноша. Он уже полчаса ходил туда и обратно. И брат-конверз вопрошающе поглядывал на него всякий раз, когда тот проходил мимо, бормоча на ходу молитву. Он всегда особенно труден, этот час перед принятием первых обетов.
Восемнадцать лет, целый мир позади. Много таких же точно повидал брат-конверз, кто-то был бледен и взвинчен, кто-то — угрюм и полон решимости, кто-то отчаивался. Потом, когда часы отбивали пять, обеты принимались, и новички испытывали облегчение. Это был тот самый час по всей округе, когда мир казался сияюще-очевидным, а монастырь — расплывчато-бессильным. Брат-конверз сочувственно покачал головой и прошел мимо.
Юноша опустил взгляд в молитвенник. Он был очень молод, лет двадцать — не более, а его взъерошенные черные волосы придавали ему еще более мальчишеский вид. Его спокойное лицо окрасил легкий румянец, а губы беспрестанно шевелились. Юноша не волновался. Казалось, он всегда знал, что станет священником. Два года назад он ощутил неясную, трепещущую, необыкновенную способность видеть небесное во всем, и это было мягкое, доброе предупреждение, что весна его жизни близится. Он дал себе волю противостоять влечению.
Но год учебы в колледже и четыре месяца за границей только укрепили в нем сознание собственного предназначения. Сомнений почти не осталось. Поначалу он терзался тысячами безымянных страхов из-за того, что связывает себя. Он считал, что любит этот мир. В панике он еще боролся, но все более в нем крепла уверенность в том, что последнее слово уже сказано. Он понял свое призвание свыше и, будучи не робкого десятка, решил стать священником.
Весь долгий месяц послушничества он метался между глубокой, почти исступленной радостью и той же неясной мукой любви к жизни и осознания всего, чем он жертвовал. Будучи у родителей любимым чадом, он был взращен в гордости и уверенности в своих способностях, с верой в свою судьбу. Перед ним были открыты все двери — удовольствия, путешествия, юриспруденция, дипломатическая карьера. Когда три месяца назад он пришел в библиотеку и сказал отцу, что собирается стать священником ордена иезуитов, разразилась семейная сцена, а потом со всех сторон посыпались письма от друзей и родственников. Они внушали ему, что причиной его побега от многогранной юной жизни стала сентиментальная идея самопожертвования, мальчишеская мечта. Месяц он слушал горькие мелодраматические трюизмы, обретая отдохновение лишь в молитве, зная о спасении и веруя в него. И напоследок он пережил самое трудное сражение — битву с самим собой. Его глубоко печалили отцовское разочарование и материнские слезы, но он знал, что время их утешит.
И вот теперь осталось всего полчаса — и он примет обет, который велит ему всю жизнь, без остатка, посвятить служению. Восемнадцать лет учения — восемнадцать лет, когда каждая его мысль, каждая идея будет ему продиктована, когда его индивидуальность, его психическое эго и плотская суть будут стерты и он исполнится силы и твердости, чтобы трудиться, трудиться и трудиться. Он чувствовал себя гораздо спокойнее и счастливее, чем несколько последних дней и даже месяцев. Что-то в этом свирепом, пульсирующем жаре солнца уподобилось его собственной душе, сильной в решении мужественно внести свою лепту в дело, в самое великое дело. Он испытывал подъем оттого, что избран, его бесспорно выделили, его настойчиво призывали. И он ответил на призыв. Казалось, что слова молитвы, словно потоки, наполняли русла его мыслей, приподнимая его тихо и безмятежно, и улыбка теплилась в его глазах. Все казалось таким простым. Вся жизнь действительно заключалась в молении. Юноша бродил туда и обратно. И внезапно что-то произошло. Впоследствии он не мог толком описать, что это было, только нечто подспудное прокралось в его молитву, что-то непрошеное, чужеродное. Какое-то мгновение он еще произносил слова молитвы, а потом она, похоже, воплотилась в какую-то музыку. Он поднял глаза и вздрогнул — там, вдалеке, по пыльной дороге брела группа чернокожих рабочих и пела. Они пели старую, давно знакомую песню.
Бери нас на небо Свое и больше
Не отпускай,
Нас не отпускай.
Господь Всемогущий, благослови
Свидеться с Тобой…
И вспыхнуло в сознании то, чего прежде не было. Он ощутил некое раздражение против тех, кто вторгся в его уединение в такой час, и не потому, что они были просты и примитивны, но потому, что они смутно тревожили его. Он знал эту песню издавна. Няня пела ее вполголоса в сказочную пору его детства. В жаркие летние послеобеденные часы он частенько тихо наигрывал ее на банджо. Она всколыхнула столько воспоминаний: месяцы на морском берегу, на раскаленном пляже, и суровое колыхание океана вокруг него, и он сам, возводящий песчаные замки вместе с двоюродной сестрой. Летние сумерки на просторной лужайке возле дома, где он ловил светлячков, а ночной бриз приносил эту мелодию из негритянских кварталов. Потом, с новыми словами, она заменила серенаду, но теперь — теперь с этой частью его жизни покончено, и все-таки ему мерещится девушка с ласковыми глазами, постаревшими от большого горя, ждущими, ждущими всегда. Ему казалось, он слышит зовущие голоса, детские голоса. А потом вокруг него завертелся город, деловитый, полный людского гомона, а семья, какой она уже никогда не будет, манила его в свое лоно.
И вот иная музыка проникла в подсознание: дикая, бессвязная, иллюзорная и рыдающая, словно вопль сотни скрипок, но вопль ясный и слаженный. Искусство, красота, любовь и жизнь проходили перед ним, словно панорама, экзотическими жаркими ароматами мира-страсти. Он видел сражения и войны, где-то развевались знамена, голоса славили короля — но сквозь все это на него глядели нежные и грустные глаза девушки, которая теперь стала женщиной.
Музыка сменилась еще раз. Звук был низкий и печальный. Казалось, юноша стоит перед воющей толпой, которая его обвиняет. Дым снова курится вокруг тела Джона Уиклифа,[87] монах преклонил колени пред аналоем и хохочет, потому что у бедняков нет хлеба, снова отравленное кольцо Александра VI[88] впивается в руку его брата, а инквизиторы в черных одеяниях хмурятся и перешептываются. Три великих человека говорят, что Бога нет, и, кажется, слышен крик миллионов голосов: «Почему? Почему? Должны ли мы верить?» А потом ему чудятся, как из магического кристалла, крики Гексли, Ницше, Золя, Канта: «Я не буду!»… Он видит Вольтера и Шоу, одержимых холодной страстью. Голоса вопрошают: «Почему?» И грустные девичьи глаза вглядываются в него с бесконечной тоской.


![Фрэнсис Фицджеральд - Три часа между рейсами [сборник рассказов]](https://cdn.my-library.info/books/137285/137285.jpg)