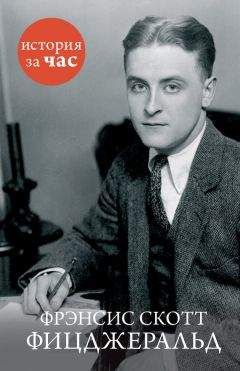Музыка сменилась еще раз. Звук был низкий и печальный. Казалось, юноша стоит перед воющей толпой, которая его обвиняет. Дым снова курится вокруг тела Джона Уиклифа,[87] монах преклонил колени пред аналоем и хохочет, потому что у бедняков нет хлеба, снова отравленное кольцо Александра VI[88] впивается в руку его брата, а инквизиторы в черных одеяниях хмурятся и перешептываются. Три великих человека говорят, что Бога нет, и, кажется, слышен крик миллионов голосов: «Почему? Почему? Должны ли мы верить?» А потом ему чудятся, как из магического кристалла, крики Гексли, Ницше, Золя, Канта: «Я не буду!»… Он видит Вольтера и Шоу, одержимых холодной страстью. Голоса вопрошают: «Почему?» И грустные девичьи глаза вглядываются в него с бесконечной тоской.
Он был теперь в пустоте над миром — и всё, объединившись, окликало его. Он не мог молиться. Раз за разом он бездумно и бессмысленно твердил: «Господи, помилуй, Господи, помилуй». Минуту, которая длилась вечность, он дрожал в пустоте, а потом что-то оборвалось. Они все еще были здесь, но что-то случилось с девичьими глазами, вокруг рта заострились жесткие линии, а ее страсть казалась мертвенной и грубой.
Он молился, и постепенно туча рассеивалась, образы таяли, превращались в тени. Казалось, сердце его замерло на мгновение, и вот он снова стоял на берегу, а колокол благовестил пять часов.
Преподобный игумен сошел с крыльца и приблизился к нему:
— Пора, сын мой.
— Да, отче, я иду.
Послушники безмолвно заполнили придел и молились, преклонив колени. Святое причастие в блестящей дароносице возвышалось на алтаре среди зажженных свечей. Воздух был густой, насыщенный ароматом ладана. Вошедший опустился на колени рядом с остальными. Первый же аккорд «Магнификата»,[89] спетый невидимым хором наверху, заставил его вздрогнуть, он поднял глаза. Предзакатное солнце сочилось сквозь витражное окно с ликом святого Франциска Ксаверия[90] по левую сторону и озаряло красный орнамент на сутане стоявшего перед ним человека. Трое рукоположенных священников опустились на колени на алтаре. Над ними сияла огромная свеча. Он смотрел на это отрешенно. Послушник справа, перебиравший четки дрожащими пальцами, покосился на него. Лет двадцати шести, светловолосый, с серо-зелеными глазами, которые нервно метались по сторонам. Взгляды их встретились, и тот, кто постарше, глазами быстро указал на алтарную свечу, словно привлекая к ней внимание. Младший проследил за его взглядом и почувствовал, как по голове бегут мурашки и зудит кожа под волосами. Тот же непрошеный инстинкт, который полчаса назад испугал его на берегу, снова проявил себя. Дыхание его участилось. «До чего жарко в часовне! Здесь слишком жарко, и свечи неправильные… неправильные…» И вдруг все стало расплываться. Послушник слева подхватил его.
— Держись, — прошептал он, — а то они все отложат. Тебе лучше? Справишься?
Он слабо кивнул и повернулся к свече. Да, ошибки быть не могло. Нечто присутствовало здесь, это нечто забавлялось с тонкими язычками пламени, свернувшись на миг в веночек из дыма. Что-то враждебное находилось в часовне, у самого Божьего алтаря. Он чувствовал, как озноб пробирает его, хотя знал, что в часовне тепло. Душу его, казалось, парализовало, но он не спускал глаз со свечи. Он знал, что должен следить за ней. И никто больше не сделает этого. Ему нельзя ни на минуту отрывать от нее взгляд. Строй послушников встал, и он тоже механически поднялся на ноги.
— Per omnia saecula, saeculorum. Amen.[91]
Он внезапно ощутил, как что-то телесное его покинуло — его последний земной оплот. Он понял, что это было: послушник слева ушел прочь, опустошенный и дрожащий. А потом — началось. Нечто и прежде посягало на основы его веры, противопоставляя его ощущение мира ощущению Бога. Оно и прежде, как ему казалось, налетало на него со всей силой, но сейчас было иначе. Ему ни в чем не отказывали, ничего не предлагали. Чтобы описать это, лучше всего представить огромную тяжесть, которая придавила самую сердцевину его души, тяжесть, у которой нет ни психической, ни физической сущности. Весь духовный мир, зло во всех его проявлениях поглотило его. Он не мог ни думать, ни молиться. Как сквозь сон, он слышал голоса, поющие рядом с ним, но они были так далеко, гораздо дальше от него, чем когда бы то ни было. Он существовал в той плоскости, где нет молитвы, нет благодати, он понимал только, что вокруг него собрались дьявольские силы, где каждая свечка — исчадие адского огня. Он чувствовал, что в одиночку выступил против бесконечности искушения. Он не мог припомнить ничего похожего ни в собственном опыте, ни в чужом. Единственное, что он знал: один человек не снес этой тяжести и поддался, но он не должен… не должен. Он должен смотреть на свечу, смотреть и смотреть, пока сила, которая наполняет ее и ведет его к цели, не умрет для него навечно. Теперь — или никогда.
Казалось, он был лишен тела, но если и думал о чем-то, его внутренняя сущность была мертва. Это было что-то более глубокое, чем он сам, глубже всех его прежних чувств. А потом силы собрались для решающей схватки. Путь, избранный остальными послушниками, открылся ему. Он затаил дыхание и ждал, а потом нечто нанесло удар. Вечность и бесконечность добра, казалось, были повержены, сметены вечностью и бесконечностью зла. Казалось, он беспомощно влачится, прокладывая путь там, где, словно в черном бездонном океане, нет ни огонька, а волны все выше и выше, а небо все темнее и темнее. Волны влекли его к бездне, в омут вечного зла, и наугад, безрассудно и безнадежно, он вглядывался в пламя, которое казалось единственной черной звездой в небе отчаяния. И тут он почуял новое присутствие. Казалось, оно возникло слева, оно будто собралось и воплотилось в красном контуре, откуда ни возьмись. Теперь он знал. Это было витражное окно святого Франциска Ксаверия. Он душой приблизился, прижался к нему и с болью в сердце безмолвно воззвал к Богу.
Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui.[92]
Слова гимна набирали силу, словно триумфальная, ликующая песнь славы. Ладан окутал его мозг, наполнил самую его душу. Где-то лязгнули врата, и свечи на алтаре не стало.
— Ego te absolvo a peccatis tuis in nomine patris, filii, spiritus sancti. Amen.[93]
Группа послушников направилась к алтарю. Разноцветный витражный свет из окон сливался с пламенем свечей, и евхаристия, окутанная золотым нимбом света, показалась ему мистической и сладкой. И стало очень спокойно.
Иподьякон протянул ему Библию. Он возложил на нее правую руку.
— Во имя Отца и Сына и Святого Духа…
Завоевание Америки
(С точки зрения некоторых писателей)[94]
Примечание. Последнее время все чаще в наших журналах встречаются утверждения, будто Германии ничего не стоит завоевать эту страну. «Так ли это?» — вопрошает «Тигр». Читайте, о, gentilissimo![95]
От редакции.
Мистер Фицчизкейк, написавший эту статью, не нуждается в представлении. Он занимал множество официальных постов, он участвовал в трех Трентонских облавах и целый год являлся депутатом Конгресса мусорщиков Бордентауна, и мы полагаем, что все изложенное им заслуживает доверия.
Американская Атлантическая флотилия пошла ко дну. Немцы приближались на трех тысячах судов и вот-вот должны были высадиться в Нью-Йорке. Флот под командованием адмирала фон Ноздрича осадил город. Ад кромешный воцарился в Великом городе, женщины и тенора метались в своих комнатах как угорелые, люди бросали все нажитое, а полиция от страха быть мобилизованной вот уже два месяца отсиживалась в Канаде. Кого же призвать к оружию, дабы восполнить бреши в армейских рядах?
Нью-йоркская команда по бейсболу окончила сезон во второй лиге, так что ее менеджер Макгроу утратил всякую надежду и подался в добровольцы. Из соображений безопасности курс молодого бойца проводили в вагоне метро. Ждать помощи от Бостона не приходилось, потому что они там выиграли вымпел Национального чемпионата и передовицы газет не упоминали о грозящей опасности. Генерал Макгроу держал оборону посреди Бруклина, ибо полагал, что даже немцы не захотят туда идти. И он оказался прав, но до него долетели три шальных пушечных ядра, пришлось удалиться с поля боя. Статую Свободы пустили в оборот, шесть миллионов ньюйоркцев попали в плен, немцы не дали им даже как следует подготовиться. Генералы фон Членбифштекс, Голодовкер и Сардельвиц собрались на совет в первую же ночь в кабачке «У Басти». Генерал Членбифштекс собирался атаковать генерала Брайана и его раританскую армию в Нью-Джерси; генерал Сардельвиц решил переправиться на пароме в Олбани, а потом в Канаду, куда три четверти граждан Соединенных Штатов, способных держать оружие, уже сбежали для заслуженного отдыха; ну а генерал Голодовкер с тридцатью отборными воинами будет осаждать Нью-Йорк. Генерал Членбифштекс на семичасовом экспрессе двинулся на Принстон, куда, по слухам, отступил Брайан. В то же время вся страна была занята войсками противника, за исключением части Нью-Джерси. Тихоокеанская эскадра, однако, осталась цела и невредима, она воспользовалась рыбацкими судами и отступила без потерь. Армия захватчиков быстро приближалась к городу, можно было видеть настоятелей, бегущих туда и оттуда, преимущественно — оттуда. Брайан выстроил армию в редакции «Тигра», они проголосовали пять к одному за смерть немецким оккупантам.


![Фрэнсис Фицджеральд - Три часа между рейсами [сборник рассказов]](https://cdn.my-library.info/books/137285/137285.jpg)