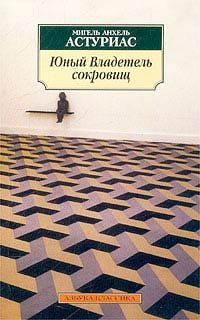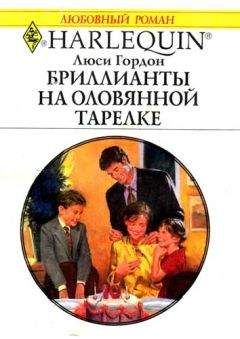— Всеобщая забастовка нас всех загонит в тупик, — пробормотал священник, но его слова лавочник не расслышал, он сосредоточенно наблюдал за всем, что происходило в его заведении.
Персонал работал неплохо, но ведь недаром говорят, что лишь под взглядом хозяина жиреет скот. Вон тому негру, например, не следовало бы подавать больше — как напьется, так скандалит. А вот тот — лицо у него точь-в-точь висячий замок, а нос как ключ, торчащий из скважины, — приходит сюда и выслеживает, не распустит ли кто-нибудь язык. На днях жена одного кочегара дала ему такую зуботычину, что у него звезды из глаз посыпались. Ничего себе бабешка, притянула к себе косого и наливается, и наливается пивом, да еще говорит, дескать, хочет пахнуть, как немка. А сама воняет, как…
— Да, всеобщая забастовка нас всех загонит в тупик, — продолжал падре Феху, разговаривая скорее с самим собой, чем с Пьедрасантой. — Прежде всего она выдвигает очень важную проблему — проблему совести. Конечно, любое социальное движение угрожает установившемуся режиму, но имеем ли мы право осуждать рабочих? Понимаем ли мы, люди других сословий, что означает — добровольно отказаться от продукта труда своего и выступить против существующих порядков, невзирая на угрозу увольнения и репрессий? Кто видел этих людей на собрании, где они принимают решение по поводу забастовки, — как видел их я, когда жил в Мексике, — тот не может забыть их лица, их высоко поднятые головы, их речи и выступления, не может не почувствовать волю этой массы, которая лишь издали кажется слепой. И все-таки не все понимают, что за этой борьбой стоят человеческие жизни, борьба за хлеб насущный, каждодневная борьба за пищу для жен и детей, за одежду и обувь, за лекарства… Не мне бы говорить об этом, Пьедрасанта, но я считаю, что в каждой забастовке таится огонь героизма, христианского героизма…
— Говорите, говорите, падресито, полегчает…
— Не мне бы говорить об этом, об этом надлежит судить консистории, курии — и чем раньше, тем лучше. В сознании рабочих укоренилось убеждение, что вся церковь враждебна им, а это не так…
— Вас, к счастью, все любят…
— Я говорю о церкви, а не о столь ничтожнейшей личности, как я, ибо со мной все ясно, ведь я — сын ремесленника, жившего в деревне, я рос среди беднейших бедняков, и по рождению я мексиканец… мне только не хватает покровительницы Мексики — Гуадалупской богоматери… Если уж к этому идет…
Зной был удушающий, палящий. Чомбо, панамский негр, и какая-то негритянка с плаксивым голосом лениво переступали под звуки дансона[101] — и было понятно, что танцевали они скорее не для того, чтобы потанцевать, а чтобы еще и еще раз прижаться друг к другу, прижаться покрепче… Улыбающаяся негритянка всем телом прильнула к Чомбо, а у того текли слюнки — белые капельки кокосового молока, — выплюнуть или проглотить?
— Плюнь, плюнь повыше — к небу, на нос тебе же и упадет!.. — кокетливо шептала ему на ухо негритянка.
Чомбо, весь какой-то ощетинившийся, хотя волос у него почти не было, косился на белый след плевка на полу и смеялся глазами. Негритянке не нравилось его лицо.
— Чомбо, ты раскачиваешься, как на виселице…
Из задней комнаты, уставленной плетеной мебелью, украшенной семейными портретами в медальонах, остановившимися навек бронзовыми часами, бумажными цветами, веерами и павлиньими перьями, — из этой маленькой гостиной, где беседовали падре Феррусихфридо с Пьедрасантой, хозяин лавки по-прежнему внимательно следил за всем, что происходило в его заведении, а на стойке, ограждавшей кантину, даже мошки и те дремали.
— Никак не могу вспомнить, разбудил ли я в конце концов мою жену. Ей пора заниматься тестом, это же дело серьезное. На днях пекарь объявил, что если начнется забастовка, так он из солидарности с рабочими плантаций тоже прекратит работу. Столько словечек появилось сейчас, каких раньше мы и не слыхивали. На каждом шагу сейчас только и слышишь… Со-лидар-ность…
— Ну я пошел, Пьедрасанта…
— Уходите, падресито? Между прочим, ваша проповедь насчет забастовки неплохо звучала бы под музыку фокстрота. Поступали бы, как евангелисты, которые перед псалмами бьют в барабан…
— Против них у меня есть союзница. Собственно, я и пришел сюда по делу, а не ради разговоров о забастовке. Хочется мне иметь образ Гуадалупской девы — ну, скажем, среднего размера, чтобы поставить ее в алтаре…
— Хорошенькую союзницу вы подыскали против евангелистов, протестантов, грешников… и… забастовщиков…
— Только не против забастовщиков! Не смешивай сало с маслом. Гуадалупская богоматерь — индеанка, босая, темнокожая, не может она выступать против себе подобных!
Переняв от своей партнерши слезливый тон, негр Чомбо — похож он был на головешку, вытащенную из пожарища, — прижавшись к желтому платью, вполголоса напевал:
Стол мой убог — вот он…
— Ай, что скажут, что скажут, что скажут! —
На листьях зеленых — только лимон…
Подойти я хочу — ты уходишь,
Ухожу от тебя — всех изводишь…
Послушай-ка, красивая моя…
Говорят, ты не любишь меня…
— Ай, что скажут, что скажут, что скажут! —
Не могу угостить я тебя.
А чем угостишь ты меня?
Ничего тоже нет у тебя…
Послушай-ка, красивая моя…
Падре Феррусихфридо хотел было по привычке потереть руки, но потные ладони не скользили, и ему пришлось ограничиться улыбкой. Вышел. В воздухе остался аромат духов, которыми он опрыскивал свою пропотевшую сутану.
Смолкли сарабанды. Отряд спугнул последних запоздалых посетителей. Дон Паскуалито разогнал зевак с площади, освещенной паровозным прожектором, простился с друзьями и, взяв под руку жену, отправился домой. Он не скрывал своего негодования.
— Среди франкмасонов нет ни одного приличного человека,[102] - говорил он жене. — Как можно было разрешить этому жулику устроить танцы в «Золотом шаре»! Хорошо еще, что нагрянул отряд и люди сами разошлись. Ему все-таки пришлось выполнить обещание и не играть «Мачакито», и то потому только, что там был сам падре. Нет, под руку не пойдем!.. Постой, я слышу, слышу… слышу, как поют… «Куда идешь, Паскуалито, с этой шлюхой гулящей…»
— Ах, вот как? Ты мне раньше об этом не говорил, Паскуаль. О, они еще узнают меня! Я заставлю их петь: «Куда идешь, Паскуалито, с алькальдессой блестящей…»
За густыми деревьями, среди домов, позади темных улиц в рытвинах и мостков над оросительными канавами, можно увидеть, как свет электрических фонарей вырывает из ночной тьмы барак, окрашенный белой краской. Над входом было написано крупными буквами: «Благая весть». Внутри барака какой-то мужчина, взгромоздившись на импровизированную кафедру, ораторствовал, а около сотни человек слушали его, рассевшись на скамейках, стульях и табуретках.
— …речь вовсе не идет о том, пройдет или не пройдет верблюд через игольное ушко, — разглагольствовал он. — Правильнее сказать: не пройдет через Игольные ворота, а это самые узкие ворота в Иерусалиме. Скорее верблюд пройдет через Игольные ворота, чем богач проникнет чрез врата небесные… Иисус отнюдь не преувеличивал… он говорил истинную правду… в действительности речь шла об Игольных воротах, через которые не пройдет верблюд, и о вратах небесных, через которые не проникнет ни один богач…
— Аи! Аи!.. — заорал, как сумасшедший, один из прислужников проповедника по кличке Гуд-дей[103]. — Горе граду Нью-Йорку, горе могущественному граду! Аи! Страшный суд грядет! И торгаши землей разразятся рыданиями и стенаниями, потому что никто не будет покупать их товаров: золота и серебра, драгоценных камней и жемчуга, тонкой ткани и пурпура, шелка и сукна, душистого дерева и слоновой кости, бронзы, железа и мрамора. Ни корицы, ни гвоздики никто не купит. Никто не купит духов и вина, масла и муки, пшеницы и вьючных животных, овец и лошадей, карет и рабов. Никто не купит жизнь людей, не купит гладиаторов… Торговцы, ставшие богачами, подгоняемые страхом, оставят тебя и уйдут далеко; рыдая и причитая, они промолвят: горе великому городу, который был разодет в тончайшую льняную ткань и пурпур, в золото и драгоценные камни, в жемчуга… все эти богатства в одно мгновение обратились в ничто… в одно мгновение город был превращен в пустыню… И каждый капитан и каждый мореплаватель остановит свой корабль далеко в море, взирая на то место, где был Нью-Йорк и где ныне вздымаются лишь столбы дыма…
Несколько слушателей бросились к нему: Гуд-дей был охвачен приступом апокалипсического безумия. Восседавшие на скамье с лицами банкиров старухи, держа в руках Библию, покачивали в знак одобрения головой.
— Гуд-дейсито!.. — заговорил расслабленным голосом по-испански какой-то полуголый мужчина с кожей цвета недозрелого банана. — Гуд-дейсито, Гуд-дейсито, ты святой гринго, такой же несчастный, как и мы, и нет у тебя другой подушки, кроме твоей Библии, и нет у тебя другой постели, кроме земли…