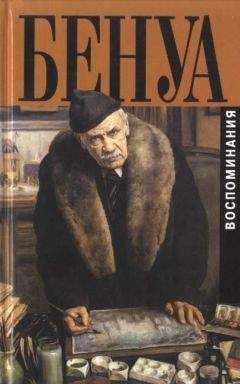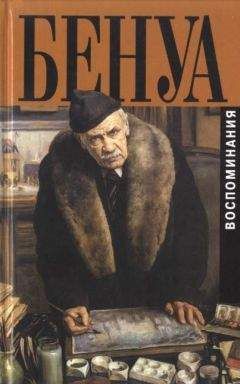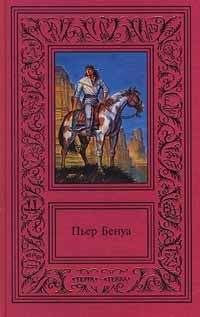Мы подошли к его банку. Это было на Вандомской площади, центре мира. Напудренные женщины проезжали в такси. Ни одна из них не меняла такси. Это было изобилие верных и добродетельных жен, честных женщин — не воровок, — и никто их не преследовал. Моиз исчез в своем под'езде. Он был единственным посетителем банка, которому швейцар по данному раз навсегда приказанию не должен был кланяться и которого не должен был узнавать. Я наслаждался этими открытыми магазинами, этим серо-голубым небом, этим сердцем Парижа, которым можно по-настоящему наслаждаться, как некоторыми продуктами, только после первого мороза. Мне казалось, что, наконец, прошлая зима распустила в Париже ту армию разгула, в которую записывались на пять лет — то-есть на годы войны — самые молодые разряды сильного пола и все призывные разряды, даже самые давние, слабого пола. Теперь все эти хорошенькие женщины, которые разгуливали одни по Парижу, казались мне освобожденными от своей всеобщей воинской повинности. Все, что было молодо и смело, возвратилось, наконец, к индивидуальной любви или индивидуальному пороку, и сообща им занимались только те, кто выигрывал от сообщества. Как всякий мужчина был теперь храбр за свой собственный счет, только за свой счет, так каждая из этих парижанок с наступлением весны, вот уже в течение нескольких дней, была красива за свой собственный страх и риск. Старая честь вновь водворялась в семейных очагах в виде привязанности или классического адюльтера.
Я думал о Бэлле Ребандар. Как она вздрогнула, когда узнала, кто я! Моя подруга, подруга зари, это и была она — Бэлла, — и я до сих пор скрывал от нее мое настоящее имя.
Семья Ребандара не уступала нашей семье в талантах и жизнеспособности. Она доставила Франции в течение двух столетий почтенное число чиновников высшего ранга, председателей совета министров и выдающихся старшин адвокатского сословия. В то время как моя семья любила размышлять над таинственными точками, в которых соединяются металлы и заключают союзы нации, игнорируя зло вопреки всякой реальности, так же, как она игнорировала дождь или снег в тот день, когда решена была какая-либо экскурсия, — Ребандары, почти все адвокаты, избирали для себя атмосферу преступлений, атмосферу спорных дел Франции.
Одинаковое число Ребандаров и Дюбардо, вылитых из бронзы, возвышалось на французских площадях, одинаковое число улиц и ярмарочных площадей были окрещены их именем. Но Дюбардо, хотя и связанные в воспоминаниях поколений с ядовитым веществом, которое они победили, с газом, который они приспособили для домашних услуг, гораздо меньше олицетворяли в глазах муниципалитетов и буржуазных классов справедливость и неподкупность, чем Ребандары, имя которых вызывало в памяти почти исключительно крупные уголовные процессы, защищавшиеся ими, начиная от мадам Лафарг до Равашоля и Ландрю. От каждого их приближения к преступлению или к банкротству — самому злостному за это столетие, — во всех этих тупиках, где они сближались с отравительницами и изменницами, для Ребандаров рождалось безграничное уважение общества к их честности и к их преклонению перед законом.
Я знал семью Ребандар. Я наблюдал ее все предыдущее лето в самой колыбели рода Ребандаров, в Эрви, в Шампани, куда я поехал с дядей Жаком; он искал там землеройку, а я писал фрески в местной церкви. Парк того пансиона, где я жил, отделялся только живой изгородью из кустарников от сада Ребандаров, и я мог видеть сквозь кусты жасмина и роз родственников нашего врага. Когда настало время сбора хлеба и овощей, я узнал, какого мнения о Ребандарах были жнецы, косцы, сборщики свеклы и, наконец, — высший суд, — что думали о них виноградари. Начался сезон охоты, и я узнал, что думали о Ребандарах охотники, имевшие разрешение на охоту, а затем и браконьеры. Эта призма необходима для деревни, чтобы хорошо узнать семью. Их дом, казалось, был целиком перенесен из Везине: он походил на наш дом в Аржантоне с той только разницей, что украшения, налепленные скобяниками или штукатурами на наш дом, были с еще меньшим вкусом выполнены председателями суда или председателями палаты. На клумбах, обрамленных подстриженными, как щетка, ирисами, герань, цинии и бегонии распространяли в воздухе самый пошлый запах из всех запахов в Шампани. Для Ребандаров эти цветы, сделанные точно из цинка, символизировали семью, отдых и даже деревню, и им никогда не приходило в голову прибавить сюда гелиотроп или фуксию точно так же, как они никогда не задумывались над тем, чтобы найти для целомудрия и славы другую эмблему, кроме флер д-оранжа и лавра. Если судить по тому, что я видел и слышал, я должен был притти к выводу, что форма, очевидно, уважалась у Ребандаров иначе, чем у нас. Ритуал французской семьи царил там во всех своих мелочах. Была установлена особая манера обращаться с каждым Ребандаром, особые жесты для каждого члена семьи, почти специальный язык. Их семья, казалось, состояла как в моральном, так и в физическом отношении из существ, необыкновенно различных меж собою. И во время простого завтрака на свежем воздухе я замечал у них более строгое соблюдение ритуала, чем при каком-нибудь европейском дворе. В разговоре слышалось столько фальшивых интонаций, как на представлении Тартюфа в Comédie Franèaise. Когда говорили с кузиной Клэр, то нужно было особенно понижать голос; при разговоре с кузеном Андрэ — иронически скандировать слова, и это производило на меня такое впечатление, что я начинал невольно смотреть, не было ли у них тарелок и салфеток, сделанных для каждого из различного фарфора и различного полотна. Ритуал, этот, очевидно, был установлен давно, с самого того дня, когда застали врасплох отца кузена Андрэ немного пьяным, а кузину Клэр читающей «Нана». Был установлен особый тон, которым говорили представители старшего поколения с младшим поколением; специальные ударения на словах для министров, не получающих наград в колледже, и для министров, получивших вторую награду на главном конкурсе. Мне казалось иногда, что они ели картонных цыплят и хлеб из папье-маше, как в театре. В то время как в нашей семье общая жизнь почти уничтожила всякие перегородки между ее членами, почти сглаживала разницу в возрасте между отцами и сыновьями — в семье Ребандар расстояния сохранялись во всей неприкосновенности между всеми членами семьи: они разделялись точно железными барьерами, и ничто не стиралось в семейных записях, начиная с первых столкновений, первых отчуждений и недоразумений. Каждого новорожденного точно погружали, прежде всего в семейные воспоминания.
Я стал различать, затем с помощью соседей два рода Ребандаров, и семья эта оказалась менее буржуазно непогрешимой, чем я думал раньше. Кроме тех Ребандаров, которых знали в Париже и в общественной жизни, тех, которые пили только воду, были безупречны как в своем здоровьи, так и в своем труде, которые были всегда одеты в черное, никогда не нацепляли на себя ни одного из своих многочисленных знаков отличия, орденов и крестов, но с вызовом надевали поверх своего платья так, чтобы они бросались в глаза за сто метров, те внутренние отличия, которые называются долгом, безупречностью (большой крест долга, мечи патриотизма). Кроме них жила в Эрви другая не менее многочисленная группа Ребандаров, расточителей, пьяниц и развратников, хотя их также украшали академические пальмы. Все мобилизуются в семье, даже больные зобом, когда вопрос идет, как в нашей семье и во многих других семьях, о походе, ведущем к истине. Но у Ребандаров заботились только о походе к чести, и потому у них было много отстающих. Пользуясь своим чудесным знанием всех современных и старых юридических процессов, они пускали в ход все рецепты, чтобы оживить, омыть честь семьи, включая сюда даже трюки Брута и Регула, и как только какой-нибудь Ребандар из второй группы совершал воровство, или насилие, или дезертирство, Ребандар министр сам являлся на суд, чтобы свидетельствовать против своего родственника и публично высказать ему порицание.
Это тщеславное уничижение обезоруживало судью, и он неизменно оправдывал обвиняемого. В конце концов, установилась своего рода безнаказанность для всех Ребандаров, и все их общественные прегрешения оставались семейными делами и семейными прегрешениями. Округ Шампань привык к такому положению. Он лицемерно скрывал правду от всякого постороннего государственного деятеля, не бывшего уроженцем этой провинции и приезжавшего сюда навестить Ребандаров. Безупречные Ребандары, пользовавшиеся всеобщим уважением, однако требовали, чтобы Ребандары парии никогда не переступали границы своей родной провинции. Им было позволено напиваться в Труа, в Шалоне, в крайнем случае в Вокулере, но те ворота, через которые прошла Жанна д'Арк и проходили добродетельные Ребандары, были для них закрыты. Заграница тоже была для них запрещена. Тем из них, кто намеревался отправиться в Америку, не выдавали паспорта. Было отчего впадать в буйство между Реймсом и Ромильи.