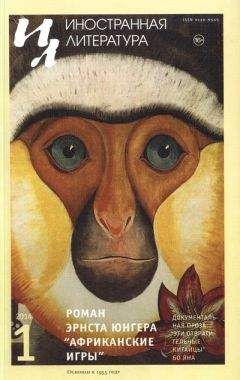Я постарался произнести эту фразу как можно более равнодушным тоном — примерно так, как человек просит прикурить; тем не менее она произвела ошеломляющее воздействие. Недоверие, испуг и затем добродушное сожаление отразились на лице полицейского, который долго молча смотрел на меня, словно впал в ступор. Потом он украдкой огляделся по сторонам и за рукав потянул меня в угол, образованный двумя ларьками.
— Послушайте! — очень настойчиво прошептал он и после короткой паузы продолжил:
— Не вздумайте туда идти! Это место для грабителей и бродяг. А кроме того, вы еще слишком молоды; среди раскаленных песков вы сдохнете, как собака. Садитесь прямо сейчас на поезд и возвращайтесь к родителям.
Именно таких увещеваний я и боялся. Тем не менее я обрадовался, что нашел наконец хоть какую-то зацепку, и время от времени пытался прервать заклинания странного ангела-хранителя, повторяя:
— Нет-нет, я хочу в Иностранный легион.
— Да, но разве вы не знаете, что там с вами будут обходиться грубо и что за жалкие несколько су в день к вам будут придираться по любому поводу?
— Меня это не беспокоит. Я отправляюсь туда, потому что здесь мне противно.
С некоторым облегчением я заметил, что наш разговор, уже привлекший внимание рыночных торговок, мало-помалу приводит полицейского в ярость. Еще раз испытующе взглянув на меня, он произнес изменившимся тоном:
— Ну, ладно. Как хотите. Я провожу вас к рекрутской конторе.
И, не проронив больше ни слова, начал подниматься на гору, которая возвышается в центре города и которую уже не одно столетие венчает полуразрушенная цитадель. Рекрутская контора располагалась в неприметном здании, перед воротами которого прохаживались несколько праздных солдат и мимо которого я в последние два дня проходил, не обращая на него внимания, уже раз десять.
Мы вошли, полицейский велел мне подождать в коридоре, а сам с непроницаемым выражением лица исчез за одной из дверей. Я воспользовался его отсутствием, чтобы выглянуть в маленькое окно, из которого открывался вид на мощную, испещренную амбразурами стену цитадели.
Коротая так время, я обратил внимание, что оконные рамы сплошь исписаны именами. Надписи были однообразны: «Генрих Мюллер, Эссен, легионер. Август Шумахер, Бремен, легионер. Йозеф Шмитт, Кёльн, легионер». Иногда имя сопровождалось коротким сообщением, например:
«Мне все осточертело, я иду в легион», или:
«После года бродяжничества я пришел в Верден, чтобы завербоваться».
Это открытие меня слегка расстроило, как бывает, когда мы воображаем, будто попали в уникальную ситуацию, а потом узнаем, что еще прежде нас точно в таком положении оказывались многие другие. Тем не менее я уже собирался дополнить своим именем этот странный реестр бездельников всех стран, в компанию которых намеревался вступить, но тут полицейский вернулся и пригласил меня в кабинет.
Здесь меня принял офицер с седыми, закрученными кверху усиками и с привычкой жестикулировать. По его обращению я сразу понял, что теперь имею дело с военной властью и что здесь никакие опасения гражданских чинов в расчет не принимаются. Он благосклонно взглянул мне в глаза и, наставив на меня указательный палец, с профессиональным пылом спросил:
— Молодой человек, вы, как я слышал, хотите попасть в Африку. Вы это хорошо обдумали? Ведь там, на юге, каждый день идут бои!
Его слова, разумеется, были бальзамом для моих ушей, и я поспешил ответить, что меня привлекает опасная жизнь.
— Что ж, недурно. У вас будет возможность отличиться. Сейчас я дам вам подписать заявление о вступлении в легион.
И, взяв из стопки бумаг печатный формуляр, он добавил:
— Вы можете выбрать себе новое имя, если прежнее вас почему-либо не устраивает. Документы мы ни с кого не требуем.
Хотя этим предложением я не воспользовался, оно мне очень понравилось, поскольку очевидно противоречило всем принципам, которым нас учили в школе. Поэтому я поспешил поставить свое имя под писаниной, читать которую счел излишним, и удовольствовался тем, что прибавил себе два года. Наверное, в этом я не отличался от своих предшественников, чьи имена прочитал снаружи, на окне этой так просто устроенной ловушки для дураков, — ибо офицер равнодушно взял лист с только что подписанным мною обязательством на пятилетний срок службы и положил его на другую стопку.
Сообщив мне, что до отправки в землю обетованную нужно еще пройти медицинское освидетельствование, он вызвал к себе одного из солдат и поручил ему заняться мною.
8
Солдат, которому этого краткого указания, похоже, было достаточно, повел меня в казарму, находившуюся за воротами. И разместил на жительство в голой комнате, вдоль стен которой стояли походные кровати.
Поскольку мы прибыли как раз во время обеда, он сходил на кухню и принес мне глубокую тарелку, наполненную вареной говядиной, а также жестяную миску с вермишелью. Потом он исчез, оставив меня наедине с едой, из которой я одолел лишь малую часть. Еда показалась мне вкусной, хотя, конечно, она не могла сравниться с омлетами из «Золотого колокола».
Периодически мой провожатый появлялся в дверях, чтобы окинуть помещение взглядом — его, очевидно, назначили кем-то вроде ответственного сторожа. Но поскольку я был доволен своим положением, меня это мало беспокоило; я поспешил оккупировать одну из кроватей, растянулся на ней и радовался грандиозному успеху, которым увенчалось мое начинание. Я достиг поворотного пункта, после которого события будут развиваться сами собой, а решение выбросить деньги воспринимал как первую победу над собственной бездеятельной мечтательностью. С гораздо большим удовольствием, чем накануне, я снова углубился в книгу об Африке. Уже через несколько дней я увижу побережье этого великого континента — границу, за которой, несомненно, скрывается подлинная, более яркая жизнь…
За чтением я, видимо, заснул, ибо внезапно меня напугал голос неслышно вошедшего сторожа.
— Эй, малыш, ты тут не заскучал, совсем один? Я тебе привел компанию!
Речь шла о бледном, более чем жалко одетом молодом человеке, который вслед за ним проскользнул в дверь уже погрузившегося в сумерки помещения.
Я понял, что это, наверное, один из тех неизвестных сотоварищей, чьи имена я недавно изучал на оконном переплете. И очень обрадовался, что передо мной так неожиданно открылась перспектива дружбы. Теплая волна, прилившая к сердцу, подсказала мне, что после своего тайного странствия я больше, чем сам догадывался, нуждаюсь в обществе хоть какого-то человека.
Поэтому я с напряженным вниманием наблюдал за каждым движением прибывшего, который, со своей стороны, не проявлял ко мне особого интереса. Он внимательно оглядывал помещение, — как зверь, угодивший в западню, — пока не остановил взгляд на столовой посуде, все еще стоявшей на столе. Вопросов он не задавал, но сообразив, что я больше не претендую на еду, поспешно набросился на нее и удивительно быстро покончил с огромной порцией. Уничтожив ее до последней крошки, молодой человек отодвинул тарелку и с желчной улыбкой пробормотал:
— Конина!
Потом спросил, нет ли у меня сигареты, а когда я предложил ему табаку, взял щепотку и очень ловко закатал ее в лист папиросной бумаги, извлеченный из грязного кармана. Он курил, растянувшись на одной из кроватей, в качестве подушки подложив под голову перевязанную шпагатом котомку, и попутно сделал несколько скупых сообщений о своей персоне.
Его зовут Франке, ему двадцать лет, он родом из Дрездена и прежде занимался керамикой.
— Керамика, — объяснил он, — это художественное гончарное ремесло, которое в Дрездене монополизировано большой гильдией.
Но ему, видно, у гончаров не особенно нравилось, ибо он вскоре сбежал от своего саксонского мастера и отправился странствовать по проселочным дорогам. Родителям несколько раз удавалось вернуть его с помощью полиции, но потом, когда эта игра стала повторяться слишком часто, они отреклись от него, напророчив плохой конец. Он уже второй год бродяжничает и решил завербоваться в Иностранный легион, потому что боится зимы.
— Им в Дрездене наплевать на меня, — закончил он свою речь, — а подыхать с голоду я могу и в Алжире.
Его рассказ продолжался бесконечно, парень будто убеждал в чем-то самого себя; казалось, ему все равно, отвечаю ли я. Вообще, у меня сложилось впечатление: этого типа не интересует ничего, кроме собственной персоны. Поэтому от него веяло странной пустотой и холодом — вероятно, бесцельное бродяжничество по проселочным дорогам было единственным состоянием, соответствующим его натуре. Вся Африка значила для него не больше, чем прибежище на зиму, а на мой вопрос, какую жизнь он намерен вести там, на юге, он вообще не ответил.
Зато я скоро заметил, что его в первую очередь волнуют два вопроса, к которым он снова и снова возвращался, хотя я на них ответить не мог. Один касался «денежного задатка», о размерах которого у него были самые фантастические представления и который, как он почему-то предполагал, нам должны были выплатить завтра утром.