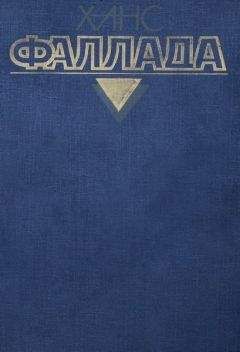Однажды у нее вырвалось: «Вилли! Вилли! Почему ты на мне женишься? Только потому, что я тогда больше не пришла? Ты ведь меня совсем не любишь!»
А он успокаивал ее, баюкал в своих объятиях, говоря, что он все делает правильно, и она когда-нибудь все поймет.
А затем они снова сидели молча, лампочка продолжала гореть, и они не знали, о чем говорить. Вот тогда-то он вспомнил о детстве.
Оно вписывалось сюда, в эту по-мещански уютную комнату, в это пристойное поведение до свадьбы. Оно вписывалось в этот кусок его жизни — преступление, суд, тюрьма вычеркивались из биографии, — он снова начинал там, где кончалась нормальная жизнь.
Стихи, да, стихи, но не только они. Иногда они сидели вместе и напевали песню, напевали тихо, чтобы родители не слышали в спальне:
«Кто тебя, прекрасный лес…»
И их лица светлели, ее маленькая ножка в открытой туфельке торопливо отбивала такт, на окнах мирно колыхались белые занавески, а он говорил:
— Теперь дай-ка попробую сам… — и он пел «Беатус илле гомо…» или «Гаудеамус игитур…».
Вернулись годы, проведенные в гимназии, а она во все глаза смотрела на него.
Подошло Рождество, и жених с невестой, как положено, стояли со свечами в руках под елкой, и маленький Вилли играл у их ног игрушечным паровозом, старый Хардер подарил зятю кошелек из телячьей кожи с блестящей монеткой, на которую он три раза плюнул: «Чтобы деньжата у вас не переводились», а фрау Хардер подарила ему кашне.
Хильда не подарила ничего, она лукаво улыбалась, щеки ее рдели, она была очень счастлива, и все выглядело на удивление мирно и складно: и посыпанный сахарной пудрой рождественский пирог, и тушенный в пиве карп, будто на свете не было ни опасностей, ни преступлений, ни нужды, ни тюрем, ни наказаний.
23
И неудивительно, что в эту счастливую пору Куфальт почти не думал о Малютке Эмиле Бруне, честно говоря, он даже избегал его.
Он больше не заглядывал к нему, а когда Брун приходил к Куфальту, того либо не было дома, либо он очень торопился, переодевался и снова исчезал.
Но как-то перед самым Рождеством Брун, сидя в большом обитом плюшем кресле, наблюдал за подобным переодеванием.
Он выглядел меньше ростом и полнее обычного и был чем-то сильно озабочен. «Он из той породы людей, что с горя толстеют», — неожиданно решил Куфальт.
— Правда, что ты гуляешь с Хильдой Хардер?
— Да, Эмиль.
— И ты с ней обручился как положено?
— Да, Эмиль.
— Для блезиру или всерьез?
— Всерьез, Эмиль.
— А малыш?
— Симпатичный малыш, Эмиль, он мне страшно нравится.
— Они знают о тебе?
— Нет, Эмиль.
— Ты им расскажешь?
— Пока не буду, Эмиль.
— Мне ты как-то заливал, что нужно об этом сразу сказать.
— Никогда не знаешь, как получится.
— Значит, все-таки для блезиру!
— Нет, на полном серьезе.
— Почему же ты им тогда не расскажешь?
— Как-нибудь расскажу.
— Когда?
— Скоро.
Куфальт очень тщательно бреется, может быть, поэтому он отвечает так односложно. Но вот он закончил бриться, поправил рубашку, воротничок и галстук, и вот уже он задает вопросы.
— Ты все еще работаешь на фабрике, Эмиль?
— Что?.. — вздрагивая, переспрашивает Брун.
Куфальт смеется.
— О чем ты сейчас думал, Эмиль? Я спросил, работаешь ли ты на фабрике.
— Да, — односложно отвечает Брун и снова погружается в свои мысли. Затем он спрашивает:
— Вилли, а если кто-нибудь расскажет Хардерам, что ты сидел?
— Кто же им расскажет?
— Ну, кто-нибудь, например, вахмистр.
— Да ведь охранники не имеют права ничего рассказывать. Ведь это служебная тайна.
— Или какой-нибудь вор.
— А зачем вору рассказывать? Он ведь ничего не выиграет от этого.
— Может, старый Хардер даст ему на выпивку за то, что он его предостерег?
Куфальт напряженно думает, выпячивает нижнюю губу, разглядывает себя в зеркальце, пробует, гладко ли выбрит подбородок, и думает, думает.
Он долго не отвечает Эмилю Бруну. А когда снова заговаривает, вместо ответа сам спрашивает:
— Ты ходил к старику, Эмиль?
— Да, — сказал Эмиль.
— Ну и?
— Ерунда.
— Почему ерунда? Да или нет?
— Очень дорого.
— Он сказал, да?
— Я ему сказал, что скопил пятьсот марок и хочу их внести.
— А он что сказал?
— Сказал, что попробует.
— Значит, все в порядке.
— Да нет.
— То есть как это не в порядке?
— Потому что нет у меня пятисот марок.
— А сколько ты отложил?
— Нисколько не отложил.
— Зачем же ты тогда говорил, что у тебя они есть?
— Потому что думаю, что они будут, Вилли.
Куфальт медленно надевает пальто, затем смотрит на себя в зеркало, расправляет сзади пиджак, берет шляпу.
— Ну я пошел, Эмиль.
— Я провожу тебя немного, Вилли.
— Хорошо, Эмиль.
Вот они идут, говорят обиняками. Брун очень хочет сказать все, но не знает, с чего начать. А Куфальт ведет себя странно. Ведь знает тюремный закон: пополам или заложу. Знает, что это нормальная сделка.
А Куфальт зол и очень расстроен. Разве он не любил по-настоящему Малютку Бруна? Да, кажется, он его действительно любил и никогда-никогда бы не подумал…
— Знаешь, Вилли, — пытается объяснить Брун, — я уйду с фабрики, этого никому не выдержать, понимаешь?
— Да, да, — произносит Куфальт.
— Иначе что-то случится.
— Да, да, — повторяет Куфальт, погруженный в собственные мысли, — ты наверняка не так поговорил с директором.
— Ты ведь и сам можешь поговорить с ним, Вилли!
— Нет, нет, — со значением произносит Куфальт. — Знаешь, в такие дела я больше соваться не буду, понимаешь, Эмиль?
Он останавливается.
— А теперь я пойду на Лютьенштрассе, Эмиль. На Лютьенштрассе семнадцать живет мой тесть. Да ты ведь знаешь, где его лавка, Эмиль.
Но он все еще стоит и смотрит на тюленью голову Малютки Бруна.
— Кстати, мне на все плевать, Эмиль. Хильда совершеннолетняя, и я, Эмиль… — Куфальт наклоняется и таинственно шепчет Бруну, — я постарался застолбить ее, понял?
Неожиданно ухмыльнувшись, он смотрит на Бруна, громко хохочет и, не оглядываясь, направляется к дому Хардеров. «Иду ко дну, тут уж ничего не поделаешь», — думает он.
24
После Рождества рекламных объявлений поубавилось, и Куфальту снова пришлось заняться подписчиками, чтобы хоть немного заработать. Это было тяжело. Одно объявление без труда давало пять, восемь и даже десять марок комиссионных, а тут ему приходилось за марку двадцать раз тараторить без умолку, и четыре попытки из пяти обычно заканчивались неудачно.
Потому что всех ремесленников, которые были сравнительно неплохими клиентами, он уже обслужил. Теперь ему приходилось ходить по домам, обходить улицу за улицей. Никогда он не знал наперед, что за люди живут за дверью, в которую он звонил, что ему сказать, чтоб понравиться им. Бывало, выйдет какая-нибудь недоверчивая женщина, на которую самое приятное обхождение не действует, и, не снимая цепочки, не слушая его, просто хлопнет дверью: «Нам ничего не нужно».
Но случалось и так, что совершенно неожиданно у жены какого-нибудь рабочего-коммуниста ему везло, и он уговаривал ее подписаться. А когда вечером возвращался в редакцию «Вестника», то оказывалось, что там уже побывал муж и со скандалом вытребовал деньги назад: они-де читают социалистическую газету, а не буржуйское дерьмо. Попадись ему этот пройдоха, он ему все кости переломает. Ишь, сволочь, ходит, глупых баб облапошивает!
А Крафт мягко выговаривал, что, дескать, не нужно бы Куфальту так наседать, на что Куфальт раздраженно отвечал: не думает ли господин Крафт, что люди прыгают от радости, если им разрешают читать «Вестник»?..
Но вот наступили последние декабрьские деньки, и опять появились объявления. К Новому году Куфальт набрал две с половиной страницы. Но ему пришлось попотеть и ко всему прочему обегать еще и магазины игрушек с их пиротехникой и посудные лавки с их новогодними подарочными тарелками. К этому добавились еще и сердечные поздравления дорогих покупателей с новогодним праздником.
С кислой улыбкой Крафт снова выплатил Куфальту деньги — двести пятьдесят марок, не преминув заметить: «Как попало, так и пропало».
Но Куфальту на это было ровным счетом наплевать. Во-первых, скоро начнутся распродажи, а во-вторых, у него теперь была настоящая сберкнижка, и на сберкнижке числилось, несмотря на все подарки, больше тысячи марок. Нет, не пропало!
И вот Куфальт, вымытый с ног до головы, аккуратно одетый, с чистыми ногтями, в праздничном настроении пришел к Хардерам, выпил несколько рюмок разбавленного пунша и с удовольствием услышал, как фрау Хардер в полдесятого сказала: