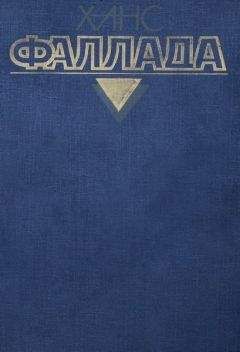— Ну, Ойген, нам, пожалуй, пора, мы не будем дожидаться звона колоколов.
Старик пробурчал что-то, добавив:
— А вы, детки, пошли бы погулять. Что вы все сидите да сидите дома. На следующий год вы поженитесь и, как знать, выберетесь ли еще когда-нибудь на люди!
При этом он еще раз окинул взглядом фигуру дочери.
Хильда исчезла, а потом появилась в восхитительном светлом в неяркий цветочек платье, на шее у нее была красивая витая цепочка из золота…
«А ведь и впрямь симпатичная», — Хардер очень удивился. Румянец на ее щеках заалел еще пуще, и от избытка чувств она чмокнула отца и мать, сказав:
— Пока, просыпайтесь в Новом году!
И молодые двинулись в путь. Старики из окна смотрели им вслед.
Шел легкий снег, многие витрины на главной улице были освещены. Вначале они немного прогулялись, Хильде понравились одни занавески, а ему другие. Наконец, обоим понравились еще одни. Они разглядывали мебель, и он вспомнил, что на Хельмштедтерштрассе выставлена прекрасная спальня, которую он давно уже хотел ей показать.
И они направились туда, шли долго, а когда пришли, то увидели, что столярных дел мастер Шнеевайс не стал освещать свою витрину.
Они очутились неподалеку от Рендсбургского трактира, и Хильда попросила Вилли на секунду зайти туда. Вероятно, ей хотелось похвалиться женихом перед своими бывшими приятельницами.
— А ведь мы там познакомились, и я тебя сразу приметила. Только виду не подала, когда ты на меня уставился. Ты помнишь, как шел за мной и Врункой до самого туалета? Врунка мне сразу сказала: «Этот знает что к чему». Пошли. Пусть там и не очень хорошо, мы только на секундочку заглянем.
Но он наотрез отказался: наверняка к ним будут приставать. Ему было не все равно, что в его присутствии ее будут называть девой с ребенком, а может, и его попрекнут тюрьмой, и наверняка там будет Малютка Эмиль Брун…
— Ни в коем случае, нет, и все!
И он предложил зайти в маленький подвальчик у рынка, в кафе «Центр», оно давно привлекало его своим обшарпанным сомнительным видом, но до сих пор по странной случайности он еще ни разу не заглянул туда. Однако стоило ему сказать об этом Хильде, как она решительно отвергла этот кабачок.
— Нет, ни за что! Нет, и все.
— Но почему? Я же только хотел заглянуть туда.
— Я туда не пойду!
— Тогда скажи, почему!
— В такое заведение — чего только о нем не говорят!
— Ты хоть раз в нем была?
— Я? Нет, нет, и не собираюсь. Даже с тобой не пойду.
Они продолжали стоять на углу у мастерской столярных дел мастера Шнеевайса, было темно и ветрено, они мерзли.
Мимо прошел мужчина. Заметив, что они спорят, он крикнул:
— Ну, что, киска, не хочет? Дать ему разок по рогам?
— Пошли, — торопливо произнес Куфальт и потащил ее за собой.
Гуляка выругался им вслед
Взяв друг друга под руки, они торопливо зашагали к центру.
— Хотел бы я знать, — задумчиво произнес Куфальт, — почему ты не хочешь зайти в кафе «Центр»?
— Потому что приличные девушки в эти кафе не ходят.
— Вот как? А на танцульки в Рендсбургский трактир такие девушки ходят?
Она вырвалась у него из рук, в отчаянии крикнула, потому что и впрямь была в отчаянии:
— О, Вилли, Вилли, зачем ты все время мучаешь меня?
— Мучаю? — озадаченно произнес он. — Все время мучаю?!.. Только потому, что хочу пойти с тобой в кафе?
Она на секунду взглянула на него, ее лицо дергалось, губы шевелились, как будто она хотела что-то сказать. Но она только взяла его за руку и тихо попросила:
— Пойдем, проводи меня домой.
— Зачем сейчас идти домой! — озадаченно воскликнул он. — Если тебе не хочется идти в кафе «Центр», тогда пойдем еще куда-нибудь. Кафе «Берлин» тебе подойдет?
Она не ответила, и тут он заметил, что она тихо плачет.
— Ну что ты, Хильда, — произнес он, оглядываясь по сторонам, — ну что ты.
— Сейчас все пройдет, — поперхнувшись, сказала она. — Пойдем, встанем на секунду у витрины.
— Почему ты плачешь? Почему я мучаю тебя? Скажи, Хильдочка, я ведь ничего не понимаю.
— Ничего, ничего, — произнесла она, снова улыбаясь. — Я только чуть-чуть накрашусь и прочищу нос…
— Но все-таки мне хотелось бы… — упрямо начал он.
— Пожалуйста, не надо, — попросила она. — Сегодня мы будем веселиться.
Они так и сделали. В кафе «Берлин» выступал прекрасный саксонский комик, который так здорово шпарил по-саксонски, что его можно было даже понять, он постоянно смешил их, а еще выступала танцовщица с выбритыми подмышками и напудренной грудью, и какая-то пожилая дама пела ужасно неприличные куплеты…
Они сидели в самой сутолоке, кругом смеялись, кричали, пили, веселились. Летели конфетти, серпантиновые ленты обвивали их, и они сидели не двигаясь, чтобы не порвать их. Затем музыканты сыграли туш, и наступила полночь. Они торжественно подали друг другу руки.
— Счастливого Нового года, Хильда, за нас обоих!
— И тебе тоже, мой Вилли! Тебе тоже! Ах, мой Вилли!
Они выпили еще по стаканчику грога, и щеки Хильды заалели. Она разговорилась, болтала, сплетничала, что натворила та, и какая репутация у этой, и что воображает из себя такая-то…
— Но я никому не завидую. Ведь у меня есть мой славный Вилли. А теперь добавился еще один славный Вилли — два славных Вилли…
Она громко захохотала. И хотя ее болтовня и смех потонули в общем шуме и никто даже головы не повернул в сторону стены, у которой они сидели, Куфальту стало немного не по себе. Фраза о двух славных Вилли тоже звучала двусмысленно, и смех у нее был неприятным…
— Вставай, Хильда, пойдем.
— Но ведь ты завтра можешь выспаться!
— Пойдем куда-нибудь еще, где можно потанцевать.
— Прекрасно, — сказала она. Она засмеялась. — В Рендсбургский трактир. — Ее глаза храбро засверкали. — Наверное, у тебя там есть другая невеста, и ты не хочешь показать ее мне?
Он зло спросил:
— А кто у тебя в кафе «Центр»?
На мгновение она смутилась, а затем прыснула.
— Ревнуешь, бедняжка Вилли? Нет, ты не должен меня ревновать, я буду хранить тебе верность и не позволю соблазнить себя…
Она пропела это на мелодию популярного шлягера.
Стоявшие вокруг одобрительно засмеялись.
— Девчонка что надо.
— Пойдем, Хильда, — попросил он. А сам подумал: «А все-таки мне она позволила соблазнить себя, а раз позволила мне, то позволит и другому…»
Глубокая печаль охватила его. «Какой тогда смысл во всем этом? — подумал он. — У меня ведь нет с ней ничего общего, она даже мне не очень нравится. Зачем тогда все это? Неужели и правда все из-за того, что она тогда больше не появилась и мне ее стало немного жаль? Только тело, только тело, с любой другой было бы еще проще, а мне даже и тело не нужно… Если бы можно было уйти, расстаться, исчезнуть… Это плохо кончится… если бы можно было начать все сначала!..»
— О чем ты думаешь? — спросила она.
— Ни о чем серьезном, — ответил он.
Но они так и не танцевали, а зашли в какой-то маленький винный ресторанчик и заказали бутылку сладкого вина. Хильда, которая до этого была то грустной и раздраженной, то озорной, веселой и болтливой, выпив вина, выглядела просто усталой, смертельно усталой, глаза у нее закрывались…
— Пожалуйста, проводи меня домой, Вилли, пожалуйста!
Она стояла у двери дома и, опершись о его руку, чуточку шаталась от сонливой усталости.
— Поцелуй меня еще разок, Вилли. О, как я устала!
— И я тоже, — сказал он.
Казалось, она себя немного взбадривает.
— Ты сейчас пойдешь домой, ты никуда больше не пойдешь, правда?
— А куда мне идти в четыре утра, тут же лягу спать.
— Правда?
— Как пить дать, — сказал он и попытался рассмеяться.
— Дай мне честное слово.
— Ну конечно, даю тебе честное слово. Я сразу пойду домой.
Она помолчала чем-то недовольная, раздумывала.
— Ну, Хильдочка, — сказал он, протягивая ей руку.
— Она крепко обняла его.
— Но, Вилли, дорогой мой, любимый Вилли… — она поцеловала его и прошептала, — пойдем со мной, любимый мой Вилли, родители никогда не заходят в мою комнату…
— Нет, нет, — испуганно произнес он.
— Но почему нет? Я так тебя хочу, Вилли, я не выдержу! Чем я тебе не нравлюсь? До Пасхи я не выдержу.
— Подумай о малыше, Хильда. Ведь так нельзя.
— А малыш никогда не просыпается раньше восьми. Уж я-то знаю. Пойдем, один раз, только раз, Вилли.
— Нет, — устоял он. — Я не хочу. Если что потом случится, все будут сплетничать.
— Но ведь и так сплетничают. Разве нам не все равно.
— Нет, я не буду. Будь благоразумна, Хильда. Подумай, до Пасхи всего несколько недель!
Он обнимал ее, утешал (и знал, что каждое сказанное им слово — ложь. Что-то непременно должно случиться. Но что именно, он не знал).