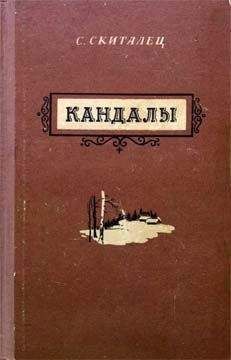Компания не без удовольствия приступала к «путанице», пригубливала свою рюмку и Челячиха.
Едва успевали выпить по рюмке, как дверь медленно отворялась и в нее громоздко влезали Оферов и Елизар. Желтая борода последнего, струившаяся винтообразными прядями, и огненные кудри значительно посерели, но сам Елизар мало поддавался наступающей старости: Клим дул на пальцы и махал рукой после его рукопожатия.
Беседа к их приходу была уже в разгаре: партия надеялась прижать земского начальника угрозой разоблачения его уголовных проделок. Ключ к ним и документальные улики уже находились в руках Челяка. Таким путем хотели принудить его сместить старшину. После низложения старшины предполагалось открыть карты, изменить майору и предать его в руки правосудия.
— Мы его — по-божьи! — мечтательно говорил Челяк и развивал хитро задуманный план действий, полный дипломатических тонкостей, уловок, уверток, казуистики и «политики».
Над хитроумием Челяка все дружелюбно подсмеивались, но однажды молчавший весь вечер Елизар сказал, тряхнув прядями своей светложелтой бороды:
— Мелко все это, Амос! мелко, потому что покудова мы канителимся — все это лишним окажется!
Челяк воззрился на своего друга:
— Почему?
Вукол, Клим, Оферов и подобострастно слушавший всех Неулыбов с любопытством посмотрели на старика.
— Мелочи, конечно, — доктор пожал плечами, — но кто знает — на грех и грабли стреляют!.. Ты как будто что-то знаешь? — с улыбкой обратился он к отцу.
— Знаю! — Елизар кивнул головой и, понизив голос, спросил Челяка: — Училки-то твои дома?
— Нет, они уходят всякий раз, когда у нас гости. А что?
— Ну, так вот. Был я нынче на станции, маленький ремонт нужно было сделать на телеграфе. Гляжу — все шушукаются, тревога какая-то у них. А телеграфист — друг мой старый — отводит меня к сторонке и говорит: «Чур, между нами, Елизар, такая телеграмма через наш аппарат прошла, что волосы дыбом: в Петербурге в народ стреляли!» И рассказал!
Все вскочили, вышли из-за стола.
— Стреляли? В народ?
— Почему?
— Было шествие рабочих к Зимнему дворцу… шли к царю… с хоругвами… вел их какой-то священник… а в них приказано было стрелять…
— Странный священник! — пробормотал писатель. — Все это теперь отзовется по всей России.
— Началось! — после общего молчания сказал Челяк и побледнел, — раньше, чем ожидали!
— А ведь завтра у нас свои события! — Вукол развел руками. — В народном доме утром формально открытие сельскохозяйственного общества с выборами!
— А потом сход для избрания старшины на новое трехлетие! — добавил Челяк. — Боевой день и даже скандальный, будем менять старшину, а против земского предъявим уголовные улики! Эх! Что будет!
— И вечером же в Народном доме первое представление пьесы «Бедность не порок» с моим участием! — Вукол пожал плечами.
— Зачем ты только в революцию идешь! — пошутил Клим, — ведь ты же артист!
Неулыбов махнул рукой:
— Все там будем!
— Это в тюрьме, что ли? — мрачно спросил Оферов.
— Тьфу! тьфу! — Челячиха суеверно отплюнулась через плечо.
В наружную дверь застучали. Все невольно вздрогнули.
Челяк решительными шагами направился к выходу.
— Кто там? — послышался его строгий и громкий голос.
Снаружи тихо доносился говор нескольких голосов. Скоро хозяин вернулся в сопровождении троих мужиков в дубленых полушубках с медными бляхами на груди, с длинными палками в руках, в скрипевших от мороза валенках. Это были десятские — сельская полиция.
— Уж вы нас извините! — добродушно бормотали они, — становой строго приказал… как мы, значит, наблюдатели за ним!
— Клим Иваныч! — позвал Челяк.
Клим подошел к порогу.
— Ну, вот он — целехонек, жив, здоров — чего вам еще?
— Покорно благодарим! — гудели, переминаясь, посетители. — Рази мы сами? Служба! Становой приказал беречь тебя, Клим Иваныч! Ничего не поделашь! Чтобы никуда, значит, из нашего села не отлучался… Дома-то у вас никого не оказалось, мы, значит, сюда! Грехи! Уж ты нас извини! Нам ничего больше не надо, как стало быть ты наш ссыльный и чтобы жил у нас в свое удовольствие.
— Ну, идите, идите! — подталкивал их Амос, — зря только людей беспокоите! Гости у меня нынче!
— Да видим, видим! Прощенья просим.
Наблюдатели ушли.
— Так что сани поданы! — заявил, появившись из кухни, совсем одетый Степан и подмигнул вслед ушедшим: — Наблюдатели? Эти наблюдут!
* * *
Каменное одноэтажное здание Народного дома в Кандалах, выстроенное под бесконтрольным заведованием земского начальника, стоило очень дорого, было построено плохо и походило на длинный низкий сарай: продолговатый зрительный зал со скамьями «для народа» и несколькими рядами венских стульев впереди для «чистой публики». В глубине зала была маленькая сцена для театральных представлений и общественных собраний.
Зал кишел народом в дубленых полушубках. Мужики сидели и стояли кучками, полушепотом, вполголоса разговаривали между собой. Тут же были Челяк, Оферов и Неулыбов. Вукол и Бушуев, взявшись под руку, расхаживали вдоль длинного зала, занятые оживленной беседой.
Около сцены собралась сельская интеллигенция, довольно многочисленная: два учителя министерской школы, две молоденькие учительницы, несколько учителей семинарии духовного ведомства и четыре священника, учительствовавших в той же семинарии, все светского типа: в очках, крахмальных воротничках и шелковых рясах — всех человек пятнадцать.
Дожидались появления земского начальника, старшины и писаря, чтобы начать заседание по учреждению нового сельскохозяйственного общества, давно намеченного, но не оформленного; всем было известно, что состоит оно из трезвенников, организованных Челяком, ненавистных сельскому начальству и духовенству. Под скромным деловым названием таилась организованная крамола.
В зале стоял сдержанный гул толпы.
— Ну-с, так вот, — звучным баритоном говорил священник высокого роста, в щегольской рясе и воротничке, — я утверждаю, что не всякого писателя можно давать мужику. Мужик — это дитя, которое еще нужно воспитывать. Какое, например, влияние может оказать на него, скажем, Достоевский? Этот больной дух. Самое разлагающее. К чему все это мужику? Разве он разберется в его болезненной психологии? Помилуйте! Любя и оберегая народ, мы не дадим ему Достоевского. Но и наши антиподы — революционеры — тоже против Достоевского: это единственное, в чем мы с ними сходимся! Далее — Лев Толстой: гениальный художник, но можно ли дать мужику его «Евангелие?» Конечно, нет! И так далее. Каждая книга пишется с какой-нибудь целью! Мы направляем в народ ту литературу, которая соответствует нашим целям: против чего же тут возмущаться, когда и наши антиподы делают то же самое? О современной нам литературе и говорить не стоит! Ну, скажите, пожалуйста, что это за писатель прислан к нам? — И, понизив голос, продолжал: — Это молодой человек, который…
Между тем Челяк с посеревшим, хмурым лицом говорил Елизару:
— Ревизия прошла, а отчетность у земского оказалась в порядке: не иначе как смикитил и успел на это время пополнить перерасходы, неприятные документы уничтожить и вообще — спрятать концы в воду… Пропустили мы момент… Теперь он на выборах опять старого старшину выставит. — Елизар молча крутил пальцами пряди своей бороды.
— Смотри, мужики-то как на тебя глядят! — сказал Клим Вуколу.
Мужики действительно давно следили за ним глазами и, сбившись в кучки, оживленно толковали о чем-то. Говор их становился все яснее, гуще и громче. Слышалось имя доктора.
— Об тебе у них речь.
— Возможно! я ведь еще ни на одном большом собрании не был.
— Вукол! — крикнул кто-то, и мужики разом окружили его.
— Али не узнаешь нас? — раздавались кругом голоса. — Чай, вместе в школу-то бегали, играли вместе!
Вукол видел кругом себя бородатые, большею частью еще молодые лица. Было в этих лицах что-то истомленное, выстраданное и вместе с тем более одухотворенное, чем в лицах прежних кандалинцев. Не было прежнего благополучия, сытости и мужицкого богатства, не было и здоровья отцов, но лица были живее, нервнее, осмысленнее. Общее выражение их было такое, словно они устали страдать, устали покоряться судьбе…
Один по одному подходили, жали руку и говорили:
— Филата помнишь? Это я!
— А я Золин!
— А Микишку-то неужто не узнал?
Некоторых Вукол вспомнил и узнал, многих не мог узнать, но со всеми должен был расцеловаться и каждому рассказать о себе.
Все они были его сверстники, товарищи. Возвращаясь в родное село и боясь отчужденности и вражды мужиков, он, казалось, упустил из виду одно простое обстоятельство, что взрослые мужики, которых он знал в детстве, — суеверные, грубые, косные, относившиеся недоверчиво к таким, как он, горожанам, — давно состарились или умерли. Вместо них живут и действуют его сверстники, понятия которых заметно изменились.