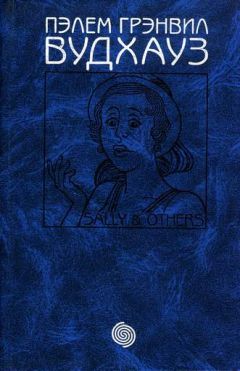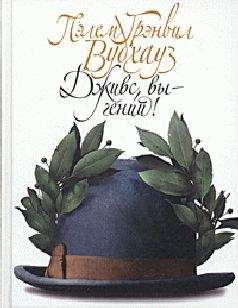— Мой дорогой Алан, — натянуто сказал Селлерс, — я просто помогаю вам заметить очевидные дефекты. Жаль, если моя критика немного сурова.
— Валяйте, валяйте! — добродушно отозвался Беверли. — Не щадите меня, это пойдет мне на пользу.
— Что ж, если говорить в целом, картина безжизненна. И кот неживой, и ребенок.
Он отошел от картины и взглянул на нее через сложенные в рамку пальцы.
— Да, кот… — продолжал он. — Как бы тут сказать? В нем нет… э… как бы…
— Нет, так нет, — сказал Алан, — Не та порода.
— А по-моему, он очень милый, — вмешалась гостья, не в силах справиться со своим нравом. Она видела, что этот Селлерс — самодовольный осел, и вынести не могла, что Алан так добродушно все выносит.
— В любом случае, — усмехнулся Беверли, — вы оба узнали, что это — кот или кошка, тут вы сходитесь, а это немало для начинающего художника.
— Да-да, дорогой мой, — начал Селлерс— Не обижайтесь на мои замечания. Не опускайте руки. Я вижу, у вас есть задатки. Вы еще распишетесь… э… м-да…
Внимательный наблюдатель без труда заметил бы, как в глазах Аннет сверкнул недобрый блеск.
— Мистер Селлерс, — сказала она елейным голосом, — и сам пробивался с трудом до нынешнего положения. Конечно, вы знаете его работы?
Алан впервые смутился.
— Э… к-х… — начал он.
— Ну как же! — продолжила Аннет все тем же сладким голосом. — Его творения есть в каждом журнале!
Беверли посмотрел с восторгом на великого человека и заметил, что тот краснеет, но отнес это на счет всем известной скромности гениев.
— …На рекламных страницах, — заключила Аннет. — Особенно ему удались рекламы ботинок и сардинок. Мистер Селлерс — мастер натюрморта.
Наступило напряженное молчание. Беверли почти слышал, как рефери отсчитывает.
— Мисс Бруэм, — выговорил наконец Селлерс, — ограничила себя коммерческой стороной моего творчества. Есть и другая.
— Ну конечно, есть! Всего восемь месяцев назад вы продали пейзаж за пять фунтов. А за три месяца до того — еще один.
Это было уже слишком. Селлерс сухо откланялся и молча вышел.
Беверли взял метелку и начал подметать.
— Что вы делаете? — испугалась Аннет.
— Собираю осколки, — объяснил Беверли. — Их надо предать земле. Да, мисс Бруэм, удар у вас мастерский.
Тут он выронил метелку и вскрикнул, потому что Аннет залилась слезами, закрыв лицо рукой и по-детски всхлипывая.
— Господи! — сказал потрясенный Алан.
— Какая же я подлая! Какая мерзкая! Терпеть себя не могу!
— Господи, — повторил Алан, от удивления не нашедший сказать чего-нибудь новое.
— Я свинья! Я злая кошка!
— Господи, — сказал Беверли в третий раз.
— Мы все боремся и бьемся изо всех сил. А я, чем поддержать, дразню и издеваюсь! Он же не может продать свои картины, а я… О! О!
— Господи, — снова произнес Беверли.
Она всхлипывала все тише, потом замолчала, и почти сразу жалобно улыбнулась.
— Простите, — сказала Аннет, — что я была такая дура. Он так ужасно с вами говорил. Я его чуть не исцарапала. Такой злой кошки во всем Лондоне нету!
— Есть, есть, — заверил Алан, показывая на картину. — Во всяком случае, по словам покойного Селлерса. Значит, он не крупный художник? Понимаете, ходит тут, грудь колесом, голова набок, вот я и подумал: «Постой-ка! Да это же гений!» Нет, не гений?
— Он не может продать ни одну картину! Перебивается заказами на рекламу. А я-а… а…
— Ну, пожалуйста! — попросил Алан. Она упокоилась, всхлипнув напоследок.
— Ничего не могу поделать! — печально сказала она. — я знаю, так нельзя, но я была уже на грани после моих жутких учениц, а он стал говорить с вами так снисходительно… — И она заморгала.
— Бедняга, — сказал Алан, — А я и не знал. О, Господи! Аннет поднялась.
— Я должна пойти, извиниться. Он, конечно, нагрубит мне, но я это заслужила.
Она вышла, а Беверли закурил трубку, подошел к столу и задумался.
Первое правило в жизни — никогда ни перед кем не извиняйся. Хорошему человеку извинения не нужны, а плохой тебя же еще и обидит. Селлерс принадлежал к последним. Когда Аннет, кроткая и кающаяся, убрала коготки и пришла к нему, он простил ее с невыносимым великодушием, которое в другой раз стоило бы ему хорошей взбучки. Но тут она смиренно позволила простить себя и удалилась с мрачным предчувствием, что с сегодняшнего дня он уж станет совсем невыносимым.
Догадка оказалась поразительно верной. Вскоре он возобновил свои визиты к Алану, который заканчивал свою картину, и дал волю критике, которой вполне хватило бы на целый том. Доброжелательность, с которой воспринимал это Алан, изумляла Аннет. Она не питала особого интереса к живописи, если не считать того, что ее все больше занимал создатель данного полотна (это ее немного пугало, когда она находила время задуматься), но если бы не воспоминание о той сцене, она давно показала бы Селлерсу, что такое настоящая критика. Однако у Беверли, по-видимому, не было чувствительности, свойственной творческим людям. Когда Селлерс набрасывался на кошку так, что ему бы не поздоровилось, будь тут Общество покровительства животным, Алан только слабо улыбался. Его долготерпения она понять не могла, но стала им восхищаться.
Наконец, Селлерс получил реальную возможность закрепить свой авторитет. После долгих блужданий удача нашла его. Его картины, месяцами пылившиеся у посредника как остовы разбитых кораблей, обрели свой рынок. За последние две недели очень неплохо ушли три пейзажа и одна картина с аллегорическим сюжетом. Под натиском нежданной удачи мистер Селлерс раскрылся, как нежный бутон. Когда агент обрадовал его новостью, что аллегорию купил богач из Глазго по фамилии Бэйтс, выложивший за нее сто шестьдесят гиней, взгляды его на обывательские вкусы публики претерпели существенные изменения. Он даже говорил с определенной симпатией об этом Бэйтсе.
— Для меня, — сказал Беверли, когда Анет ему все сообщила, — это хороший знак. Отсюда следует, что в Глазго появился трезвый человек. Пьяный не решился бы взглянуть на эту аллегорию. Очень приятно, очень.
Успехи самого Беверли были более скромными. Он закончил «Мальчика с кошкой» и отправился к агенту с рекомендательным письмом от Селлерса. Теперь Селлерс вел себя как знаменитость, которая рада помочь новичкам.
Расставшись с картиной, Беверли не спешил работать. Когда бы Аннет ни зашла, он либо сидел в кресле, закинув ноги на подоконник и покуривая трубку, либо внимал Селлерсу. Теперь, разжившись деньгами, тот бросил рекламу и замыслил большое полотно, еще одну аллегорию. Тем самым он мог посвящать много времени Алану; и посвящал, то есть он говорил и говорил, а тот сидел и курил. Слушал ли он или нет, сказать трудно, но после второй лекции Аннет просто бросило в дрожь.
— Да как вы позволяете! — возмутилась она, — Если бы кто-нибудь стал разговаривать таким тоном со мной, я бы… я не знаю, что я бы с ним сделала! Даже… даже если бы это был очень хороший музыкант.
— Разве вы не считаете Селлерса хорошим художником?
— Картины продать он смог, значит — они хорошие, но говорить с вами свысока он все равно не имеет права.
— Да, такая манера тяжеловата, даже если король говорит с мокрицей, — согласился Беверли. — Так что же нам делать?
— Если бы вы продали хоть одну картину!
— А, вон что! Ну, я свою часть дела выполнил. Теперь пусть трудится мой агент. У меня нет долгов перед публикой. Пусть теперь она кружится перед моей картиной… да, кстати, как там с вальсом?
— Он закончен, — подавлено сказала Аннет. — И даже издан.
— Издан?! Тогда в чем дело? Откуда эта грусть? Почему вы не порхаете по площади и не щебечете от счастья?
— Потому что он издан на мои деньги. Не так много, пять фунтов, но и они не окупились. Если тираж разойдется, издадут еще.
— И вы будете платить?
— Нет, за следующие платят издатели.
— А кто они?
— Грушинский и Бухтеркирх.
— Господи! Да о чем тогда беспокоиться! Считайте, что дело в шляпе! Человек с такой фамилией, как Грушинский, продаст десять таких изданий, а при поддержке Бухтеркирха они заставят танцевать этот вальс всю страну. Младенцы, и те запляшут в колясочках.
— Когда я его видела, он, кажется, так не думал.
— Ну конечно! Он не знает своей силы. Его застенчивость вошла в поговорку. Все музыканты говорят: «Фиалка, а не человек!» Дайте ему развернуться.
— Да я готова на все, чтобы он хоть что-нибудь продал. Как ни странно, он продал! Не было никакой причины, чтобы вальс неизвестного композитора стал продаваться лучше вальсов других неизвестных композиторов, но именно это и произошло. Без всякого предупреждения тонкий ручеек превратился в мощный поток, и сам Грушинский, по-отечески поздравив Аннет, заказал за неделю два новых издания. Беверли, все еще находящийся под неусыпным оком Селлерса, сказал, что он не сомневался в успехе этого вальса с тех пор, как одна лишь фраза привела его в такой восторг, что ему пришлось аплодировать палкой об пол. Даже Селлерс ненадолго забыл про свои триумфы и соблаговолил поздравить Аннет. Деньги потекли, сглаживая дорогу жизни.