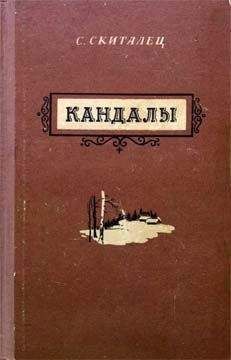Подъехав к трибуне, они вылезли из брички.
— Что здесь происходит? — спросил земский.
Лаврентий ответил:
— Происходит собрание, для того чтобы отправиться в Кандалы на выборы нового старшины. Раз уж вы приехали, то нашим земским сходом поручено мне сказать вам, что освобождаем вас от ваших обязанностей. Передайте ваши должности тем, кого мы сами изберем, а вы нам больше не нужны.
Старшина и земский, ничего не сказав на это, полезли обратно в бричку.
Когда бричка покатилась по дороге за околицу, Лаврентий начал говорить. Он сказал:
— Крестьянский съезд постановил не подчиняться больше земскому начальнику, а собраться всем выборным от сел и деревень волости в волостное село Кандалы и там выбрать всем народом своего старшину или председателя, который служил бы не земскому начальнику, а народу. Народ сам составил свои законы. Сейчас вы их услышите.
Вышел Владимир Буслаев и громким, звучным голосом прочел только что написанные съездом законы.
Народ одобрил их шумными рукоплесканиями.
Вся деревня, стар и млад, бабы и дети — все были на площади. Все чувствовали: происходит что-то серьезное и радостное, но пока еще не сознавали, что Займище уже отложилось от царской России и стало существовать как самостийная республика, надеясь, что вся Кандалинская волость и прочие волости всего государства начнут жить по-новому.
В установленном порядке на трибуну выходили все желающие говорить и говорили. Неожиданно близко к сердцу приняли это событие женщины. С трибуны говорили бабы и девки, говорили лучше, горячее мужиков. Говорила скопидомка Ондревна, пересыпая свою речь мудрыми народными изречениями, говорила Паша, говорила дочь Яфима, Саня, и многие другие женщины деревни. Все они призывали своих мужей, отцов, братьев и женихов на это хорошее народное дело.
Народ плакал от радости. Создалось повышенное, сердечное настроение, как на пасхальной заутрене. Обнимали друг друга, целовались, плакали.
В этом настроении решили тотчас же всей деревней идти через соседние деревни в Кандалы, где была волость. Решили сказать кандалинцам: в городе поднимаются рабочие, идите и вы с ними, тогда и вся округа пойдет, все восемнадцать волостей! Пусть-ка с этим посчитаются в городе, когда Большая Волга скажет: «Да здравствует Волжская республика!»
И открылось народное шествие.
Впереди всех с лицом значительным и вдумчивым, с посохом в руке, с опущенной на грудь головой шел Лаврентий, за ним густой толпой шли мужики, бабы и девки — вся деревня. Сзади же потянулись возы с провизией и дорожными вещами: извещены были все восемнадцать волостей, чтобы присылали своих выборных да готовились бы защищать народную власть.
Пели революционные песни. Пели серьезно и вдумчиво, как молитву. С женскими голосами выходило ладно и стройно.
Кругом расстилались поля, покрытые первым недавно выпавшим снежком. Был солнечный, мягкий день. За Волгой виднелся горбатый, угрюмый Бурлак, а на горизонте — Жигули, видевшие на своем веку всякие виды и смотревшие вдаль с вечной суровостью. Волжане шли радостно, в сердцах их была весна.
Молчалив и озабочен был Лаврентий, песен не пел. Тяжелой поступью, в огромных кожаных сапогах, с широкой чуть-чуть наклоненной спиной, шагал он, напоминая нагруженную волжскую баржу, медленно плывущую серединою великой реки. В голове его толпились тяжелые мысли: Лавр проверял в уме своем план задуманного большого народного дела. Народ, веривший в него, как в самого себя, послушно шел за ним, как идут дети за отцом.
Когда проходили мимо купецкой экономии — на перекрестке дорог встретился всем известный, давно прогоревший и спившийся дворянин, бывший помещик, служивший теперь в лакеях у немца-управляющего. Это был поджарый, истасканный человек с нехорошим лицом, на котором оставила свои следы нетрезвая, нечестная и несчастливая жизнь его. Если он приходил за чем-нибудь в деревню, то непременно приставал к девкам и молодым бабам, отпуская неприличные шутки. Не утерпел он и на этот раз: прищуриваясь и покручивая тощую бороденку свою, с издевкой смотрел на проходившую мимо него процессию с красными знаменами и видневшимися на них надписями. Ничего не поняв, он громко прокричал грязную пошлость, оскорбив не только женщин, но весь народ и священное знамя его.
В другое время от него бы только с презрением отвернулись, но теперь, когда все переживали возвышенное, святое для них настроение, неприличная шутка показалась чем-то вроде кощунства.
Бабы громко негодовали, некоторые плакали от нанесенной обиды. Процессия остановилась, а оскорбителя окружили со всех сторон мужики и парни с револьверами у пояса. Выражение их лиц не предвещало ничего хорошего для лакейской душонки дворянина. Он пробовал отшутиться, но внезапно побледневшее лицо его показало, до чего он испугался.
Несколько дюжих рук схватили его подмышки и почти волоком подтащили к Лаврентию.
Весь народ сомкнулся тесным кольцом вокруг судьи и преступника.
Наступила тишина.
Лаврентий сперва помолчал, пристально рассматривая схваченного и опираясь на свой высокий посох.
Все ждали, что он скажет: это был первый суд по новым законам. Если бы Лаврентий приказал виновника повесить, расстрелять, разорвать на части — подсудимый не удивился бы, да и приговор, пожалуй, был бы немедленно исполнен.
Бедняга дрожал всем телом: только тут он понял и почувствовал, в каком настроении шли эти люди, и мысленно читал себе отходную. Лаврентий сказал:
— Ты совершил преступление: оскорбил людей, которые тебя не трогали и не делали тебе зла. Хуже того: ты оскорбил женщин и девушек — наших матерей, жен, сестер, дочерей. Еще хуже: ты издевался над нашей святыней…
Он помолчал, подумал и сказал своим спокойным, ровным, но всегда слышным голосом:
— Вот тебе наказание: мы изгоняем тебя из нашего общества, оставь нас и наши места.
И, обращаясь к державшим его людям, сказал спокойно:
— Отпустите его.
Лакей, не ожидавший такого наказания, почувствовал, что железные пальцы, сжимавшие его руки, разжались.
Толпа разомкнулась.
Обрадованный пленник бросился бежать. Через несколько минут он был далеко, и только издали мелькали его пятки.
Шествие двинулось дальше.
Настроение опять поднялось.
Все шли за Лаврентием и когда смотрели на его широкую спину, чуть-чуть наклоненную, то казалось, что эта спина может заслонить и отстоять их от всех бед и напастей.
Дорога шла через степную деревушку Тростянку по берегу речки, заросшей высоким тростником. Местами пловучие корни тростника от одного берега до другого, переплетаясь между собой, обращались в одну сплошную, колеблющуюся трясину. Сколько раз еще в детстве Лавр и Вукол переходили через речку по этой трясине, коварно погружавшейся в воду под каждым их шагом.
Ворота околицы почему-то были заперты, а у ворот стояло несколько мужиков из этой деревни с дубинами, косами и железными вилами в руках. Один старик держал подмышкой одноствольное охотничье ружье. В деревне тоже виднелись мужики с дубинами и вилами.
Толпа остановилась.
Лаврентий отделился от своих и подошел к воротам.
— Не пускаете? — спросил он.
— Не пусцаемо! — жалобно ответила стража на местном старинном говоре.
— Почему?
— Миром тутоди постановлено не пущать! Обробели!
— Чего же вы обробели?
— Да бают — вы грабить идете всех, хлеб тамоди, скотину и опить же живность. Из приказа голова тутоди приехамси был, сход сгоняли… Вы тамоди как хотите, а мы себя тутоди в обиду не дадимо! в колья вас примемо, родимые, мимо проходитя, через деревню тамотко не пустимо, нету нам такого приказу!
Лаврентий подумал, помолчал, потом спросил:
— А где у вас староста?
— Я староста и есть!.. тутошние мы! — торопливо ответил старик с ружьем.
— Ну, вот что, староста! Вы нас пропустите — не через трясину же идти народу, а мы дадим вам честное слово: ничего не тронем у вас! Ни краюхи хлеба, ни чашки молока, ни кур, ни яиц — ничего не возьмем: пройдем — и все тут!
— Али не тронете?
— Не тронем.
Староста помолчал.
— Всем Займищем тутоди идете?
— Всем Займищем.
— Куды идете-то?
— В Кандалы.
— А ты, малай, нешто за атамана-таки?
— Да!
Опять помолчали. Молчало Займище, молчала Тростянка.
— Так как же? Пропускайте уж! Ей-богу, ничего не возьмем! Чай, не разбойники мы, а соседи ваши, такие же мужики, как и вы! Идем по общественному делу на выборы нового старшины и вас туда же зовем, а вы как хотите — насильно никого из вас в это дело замешивать не собираемся!
Староста почесал поясницу.
— Так-то оно так! А только тамоди напуганы мы! Дело наше-таки сторона, опить-таки нас незамайте!