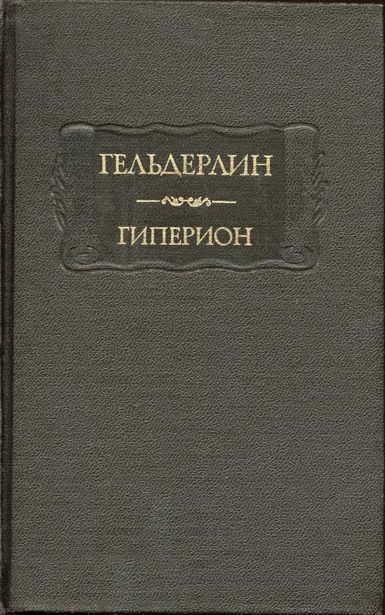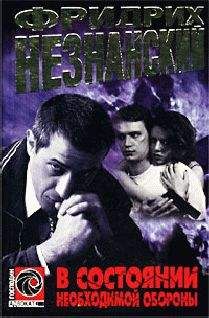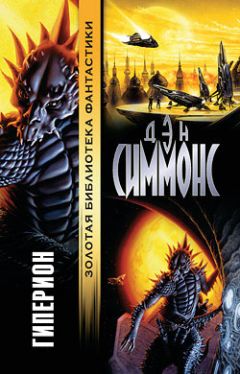и сидел, задумавшись, в залитом лунным светом углу у окна. Я стоял в тени, он меня не узнал и посмотрел на меня равнодушно. Бог знает, за кого он меня принял.
— Ну как дела? — спросил он.
— Да потихоньку! — ответил я.
Но притворство было напрасно. В моем голосе звучало скрытое ликование.
— Что такое? — и он вскочил. — Неужели это ты?
— Я, конечно, ах ты, слепой! — и я бросился к нему в объятия.
— О, теперь, Гиперион, теперь все будет иначе! — проговорил наконец Алабанда.
— Надеюсь, — сказал я, радостно пожимая ему руку.
— Ты еще не забыл меня, — продолжал после минутного молчания Алабанда, — ты еще сохранил прежнюю искреннюю веру в Алабанду? Это великодушно, мне никогда больше не было так хорошо, как с тобою, когда меня преображал свет твоей любви.
— Как? — воскликнул я. — И это говорит Алабанда? Сказано не слишком гордо, Алабанда. Но это знамение времени: человек старого героического склада вынужден вымаливать себе уважение, а живое человеческое сердце просит, как сирота, подать ей хотя бы капельку любви.
— Милый мальчик, я и есть старый. Жизнь вокруг такая, а там еще история с теми старцами, к которым я тогда в Смирне хотел отдать тебя на выучку...
— О, как горько, — сказал я, — что и на этого человека ополчилась богиня смерти, та безымянная, которую люди зовут судьбой.
Внесли лампу, и мы стали снова украдкой разглядывать друг друга, любовно и испытующе. Облик дорогого друга был уже не тот, что раньше, в дни надежды. Как полуденное солнце на бледном небе, сверкали на его увядшем лице большие, всегда живые глаза, встречаясь с моими.
— Ну, дружище, — воскликнул Алабанда, добродушно досадуя, что я так в него всматриваюсь, — будет тебе бросать на меня унылые взгляды. Я прекрасно знаю, что порядком сдал. О мой Гиперион! Я страстно хочу встретить в жизни подлинно великое и истинное и надеюсь обрести это вместе с тобой. Ты стал на голову выше меня, ты свободнее и сильнее, чем был когда-то, и видишь, меня это от души радует. Я — иссохшая земля, а ты приходишь осчастливить меня, как гроза... О, до чего же чудесно, что ты здесь!
— Молчи! — сказал я. — У меня ум за разум заходит, нам бы вовсе не надо было говорить о себе, пока мы не окунулись в жизнь, в дело.
— А ведь верно! — весело согласился Алабанда. — Лишь когда затрубят рога, сознаешь себя охотником.
— А скоро ли это будет? — спросил я.
— Скоро, — ответил Алабанда, — и я предсказываю тебе, дружище, что огня будет вдоволь. Что ж! Пускай языки пламени взметнутся до самой вершины башни, расплавят флюгер на шпиле, пускай ярятся и бушуют, пока она не даст трещину и не рухнет! И пусть тебя не смущают наши союзники. Я отлично знаю, добрые русские не прочь воспользоваться нами как пушечным мясом. Но поверь мне, стоит нашим дюжим спартанцам хоть раз почувствовать, кто они и чего могут добиться, стоит только нам завоевать Пелопоннес, и мы рассмеемся прямо в лицо Северному полюсу и будем строить нашу жизнь по-своему.
— По-своему, — повторил я, — новую, достойную жизнь. Кто мы — блуждающие огни, порожденные болотом, или потомки победителей при Саламине? Что же случилось? Как же ты стала рабою, вольнолюбивая греческая природа? Как ты могло так низко пасть, поколение наших отцов, если священные изображения Юпитера и Аполлона были некогда только копиями с тебя? Но слушай меня, небо Ионии! Слушай меня, родная земля, прикрывающая, словно нищенка, свою наготу лохмотьями былого великолепия, я не хочу больше это терпеть!
— О солнце, взрастившее нас! — воскликнул Алабанда. — Ты увидишь, как крепнет в трудах наше мужество, как выковывается под ударами судьбы, точно железо под молотом, наше будущее.
Мы заражали друг друга своим пылом.
— И мы смоем с себя каждое пятно, каждое площадное слово, которыми замарал нас наш век, как чернь марает стены! — воскликнул я.
— Тем-то и хороша война...
— Верно, Алабанда, — подхватил я, — хороша, как всякое великое дело, где человека поддерживает сила и разум, а не клюка и крылья из воска. Вот когда мы скинем невольничью одежду, на которой судьба поставила свое клеймо...
— И в нас не останется ничего суетного и наносного, — продолжал Алабанда, — и мы пойдем к своей цели, сбросив с себя и украшения и оковы, нагие, как бегуны на немейских играх.
— К той цели, — вторил я, — где брезжит заря юного, свободного государства и где на греческой земле высится пантеон красоты.
Алабанда помолчал. На его лице вновь играл румянец, и сам он будто распрямился, как растение после дождя.
— О юность, юность! — сказал он. — Вот когда я буду пить из твоего источника, буду жить и любить. — Он был как во хмелю. — Мне так радостно, о ночное небо, — и он подошел к окну, — когда ты надо мной, и твой купол похож на беседку из виноградных лоз, и звезды твои висят гроздьями винограда.
Гиперион к Диотиме
Счастье мое, что я ушел с головой в работу. Иначе я совершал бы одну глупость за другой, так переполнена моя душа, так очаровывает меня этот человек — необычайный, гордый, который ничего не любит, кроме меня, и лишь со мной смирен — насколько способен быть смирным. О Диотима! Алабанда плакал и, как ребенок, просил прощения за то, что было в Смирне. Кто ж я такой, мои милые, что называю вас своими, осмеливаюсь говорить: «Вы мои!», — что я, точно завоеватель, стою между вами и прижимаю вас к груди, как добычу?
Диотима! Алабанда! Благородные, спокойно-величавые существа! До какого же я дойду совершенства, если только не вздумаю бежать от своего счастья — от вас!
Только что, сев писать, я получил твое письмо, дорогая.
Не грусти, моя радость, не грусти! Огради себя от скорби, сохрани себя для будущих празднеств отчизны! Для светозарного праздника природы — для него и для светлых торжеств во славу богов храни себя, Диотима!
Разве ты не видишь уже нашу Грецию?
О, неужели ты не видишь, как вечные звезды, радуясь новому соседству, улыбаются нашим городам и рощам, как древнее море, обнаружив на своих берегах толпы