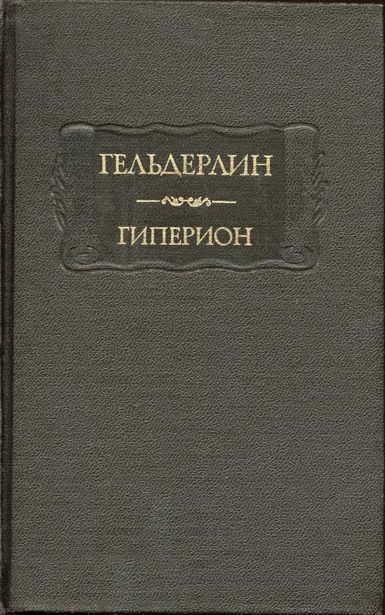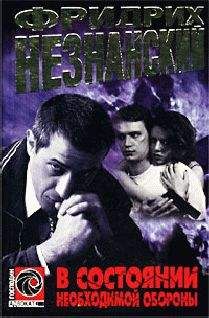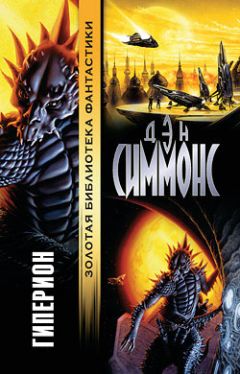гуляющего народа, вспоминает прекрасных афинян и вновь несет нам, как прежним своим любимцам, счастье на гребне веселых волн?
Вдохновенная! Ты и сейчас прекрасна. Но тогда лишь, когда ты будешь дышать поистине родным воздухом, ты предстанешь в полном блеске своей пленительной красоты!
Диотима к Гипериону
Я почти все время жила затворницей [165] с тех пор, как ты уехал, милый Гиперион! Только сегодня я вышла из дому.
От нежного февральского воздуха я снова набралась сил и все, что я набрала, посылаю тебе. А еще пошло мне на пользу, что с неба повеяло теплом и свежестью, да то еще, что я так ощущаю это блаженное обновление растительного мира, чистого и неизменного, в котором все печалится и вновь радуется в свой срок.
Гиперион, Гиперион! Отчего бы и нам не идти таким же мирным жизненным путем? Ведь это священные слова: зима и весна, лето и осень! А мы их не чтим. Разве не грех весною печалиться? Отчего же мы все-таки грустим?
Прости меня! Дети земли живут только солнцем; я живу тобою, у меня иные радости, что ж удивительного, если у меня и печали иные. Но должна ли я печалиться? Должна все-таки?
Смелый духом, любимый мой! Мне ли блекнуть, когда тебе блистать? Сердцу моему изнемочь в тоске, когда ты каждой жилочкой чувствуешь упоенье победой? Да если бы я раньше прослышала, что греческий юноша собирается вывести свой бедный народ из позорного состояния, возвратить ему прекрасный облик его матери Красоты [166], от которой народ этот рожден, я в изумлении бы встрепенулась от милого сна детства, и как влекло бы меня тогда к образу дорогого героя! И вот, когда он здесь, когда он мой теперь, что ж я еще плачу? Ах я глупая! Разве это не явь? Разве он не прекрасен, разве он не мой, о, тени блаженной поры, заветные мои воспоминания?
А ведь кажется, это было только вчера, когда чистый душою пришелец впервые встретился мне, словно скорбный гений, в тот волшебный вечер, озарив сумрак леса, где сидела беспечная девочка, погруженная в юные мечты.
Он пришел вместе с майским ветром, волшебным майским ветерком Ионии, который сделал его еще краше: распушил ему кудри, приоткрыл, словно лепестки цветка, его губы, прогоняя улыбкой печаль. И, как с неба лучи, засияли мне навстречу его глаза, завораживающие озера, где в тени, под нависшими дугами берегов, мерцает и плещется вечная жизнь!..
Благостные боги, до чего же он был хорош, когда так смотрел на меня! Он будто вырос, вырос на целую пядь, этот юноша, он стоял, как натянутая струна, и только беспомощно опустил свои милые, застенчивые руки, словно они ему ни к чему! А потом поднял глаза к небу, точно я туда улетела и меня здесь нет, и тотчас же, уверившись, что я тут, с ним, улыбнулся так пленительно и ласково и покраснел, и его взор Феба блеснул сквозь дымку слез, спрашивая: «Это ты? Это правда ты?».
Почему же при встрече со мной он был проникнут таким благоговением, такой суеверной любовью? Почему он пришел с поникшей головой, почему этого божественного юношу томили тоска и скорбь? Потому что этот благостный гений не мог более быть один, а мир был слишком убог, чтобы его понять. О, какой это был человек, сотканный из величия и страданий! Но теперь все иначе, страдания его кончились! Он нашел себе дело, больной выздоровел!
Когда я начала тебе писать, мой любимый, я все время вздыхала. А сейчас я — сама радость. Так, говоря о тебе, становишься счастливой. И вот увидишь, так будет всегда. Прощай!
Гиперион к Диотиме
Мы успели без помехи отпраздновать твой праздник, жизнь моя, пока не грянула буря. Стояла чудесная погода. С востока повеяла и засияла ласковая весна, заставила нас произнести твое имя, как она заставляет цвести деревья, и, точно вздох, вырвались из моей груди все блаженные тайны нашей любви. Мой друг никогда не знал подобной любви, и было просто чудесно, что этот гордый человек способен так внимательно слушать, с горящими глазами, с увлечением, пытаясь представить себе твою внешность, твой характер.
Под конец он воскликнул:
— О, стоит бороться за нашу Грецию, если она еще порождает таких людей!
— Разумеется, Алабанда, — сказал я, — мы радостно идем в бой, мы горим святым огнем, стремимся к подвигам и наш дух молодеет, когда перед нами предстает такое существо; тогда уж мы не можем ставить себе незначительную цель, тут уж не до пустяков и не до умствований в ущерб душе, тут уж не станешь пить вино ради кубка; мы отдохнем только тогда, Алабанда, когда блаженство гения перестанет быть тайной, будет всеобщим достоянием; когда глаза всех людей засверкают, как глаза триумфаторов, а дух человеческий, так долго отсутствовавший, воссияет над всеми заблуждениями и муками и, торжествуя победу, восславит родной ему эфир. Ах! В будущем наш народ должны узнавать не только по его знаменам, все в нем должно обновиться, стать совсем другим: радость — серьезной и всякий труд — приятным! Пусть ни одно, даже самое малое, повседневное, дело не совершается без души и участия богов! Любовь, и ненависть, и каждое наше слово должны повергать в изумление пошлую толпу, и пусть ничто ни на миг не напоминает нам о постыдном прошлом!
Гиперион к Диотиме
Вулкан просыпается. Турки осаждены в Короне и Модоне, и мы с нашими горцами продвигаемся к Пелопоннесу.
Теперь уже во мне нет и следа уныния, Диотима; мой дух стал стремительней и тверже с тех пор, как я окунулся в живую работу, и, знаешь, теперь у меня есть даже распорядок дня.
Он начинается с восходом солнца. Я иду туда, где в тени леса спят мои воины, и приветствую тысячи ясных глаз, раскрывающихся с буйным радушием мне навстречу. Пробуждающееся войско! Я не знаю ничего ему равного, и по сравнению с ним жизнь людей в городах и селениях не более чем рой жужжащих пчел.
Человек не может отрицать, что был некогда счастлив, как лесной олень; спустя несчетное множество лет в нас тлеет тоска по первобытным временам, когда каждый бродил по земле, как бог; когда что-то, а что — не знаю, еще не сделало людей покорными и когда человека окружали не каменные стены, не мертвое дерево, а святой воздух.
Порой, Диотима, я испытываю удивительное чувство, обходя моих беззаботных ратников, и они, точно вырастая из-под земли, встают один