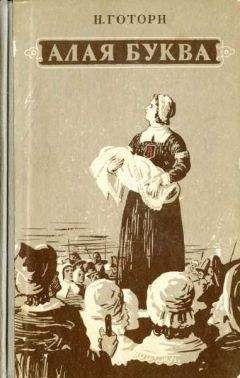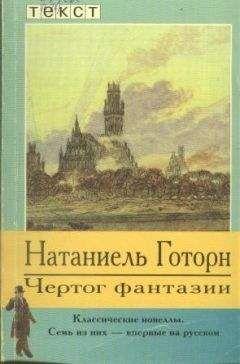которые появляются на них только через некоторое время после заката, когда горизонт потеряет весь свой роскошный блеск. Месяц также, долго пересиливаемый солнечным светом и терявшийся до сих пор в небесной лазури, начал ярко сиять на половине ночного своего пути. Серебристые лучи его были так сильны, что могли уже изменить характер остающегося дневного полусвета. Они смягчили и скрасили вид старого дома, хотя тень сгустилась сильнее прежнего в углах шпилей и лежала непроницаемой массой под выступом верхнего этажа и в пространстве полуотворенной двери. С каждым мгновением сад делался живописнее; плодовые деревья, кустарники и купы цветов наполнились в своих промежутках темнотою. Обыкновенные черты сада, набросанные, по-видимому, в течение столетия бестолковой жизни, были преобразованы теперь романтическим очарованием. Сотня таинственных лет шептала между листьями всякий раз, когда между ними проникал легкий морской ветерок. Лунный свет пробивался там и сям сквозь лиственный покров беседки и падал серебристо-белыми пятнами на ее темный пол, на стол и на окружающие его скамейки, беспрестанно меняя формы этих пятен по мере того, как скважины между листьями то открывались, то снова закрывались.
Воздух был так приятно холоден после жаркого дня, что летний вечер казался потоком росы и лунных лучей, перемешанных с ледяными искрами, – потоком, льющимся из серебряной вазы. Там и сям несколько капель этой свежести падало на человеческое сердце и возвращало ему его молодость и симпатию к вечной красоте природы. Одним из таких сердец было сердце нашего дагеротиписта. Живительное влияние лунного и свежего вечера дало ему почувствовать, как он еще молод, о чем он часто почти забывал.
– Мне кажется, – сказал он, – что я никогда еще не видел наступления такого прекрасного вечера и никогда еще не чувствовал ничего столь похожего на счастье, как в эту минуту. Что ни говори, а в каком добром живем мы мире! В каком добром и прекрасном! Как он еще молод! Этот старый дом, например, иногда решительно подавлял мою душу запахом гниющих бревен, а в этом саду чернозем всегда так лип к моему заступу, как будто я землекоп, роющий могилу на кладбище. Но если б я сохранил навсегда чувство, которое теперь овладело мною, то сад каждый день представлялся бы мне девственной почвой и запах его бобов и тыкв говорил бы мне о свежести земли. А дом! Он бы казался мне беседкой в эдеме, цветущею первыми розами, созданными Богом. Лунный свет и чувство человеческого сердца, ему соответственное, – величайшие возобновители и преобразователи.
– Я прежде была счастливее теперешнего, по крайней мере, гораздо веселее, – сказала задумчиво Фиби, – но и я чувствую прелесть этого тихого сияния. Я люблю наблюдать, как неохотно удаляется на покой усталый день и как ему досадно, что он должен подняться завтра так рано. Я прежде никогда не обращала большого внимания на солнечный свет и удивляюсь, что в нем сегодня такого привлекательного!
– И вы никогда прежде не чувствовали этого? – спросил дагеротипист, глядя пристально на девушку сквозь сумерки.
– Никогда, – отвечала Фиби, – и сама жизнь кажется мне теперь иною, когда я так сильно ее чувствую. Мне кажется, как будто до сих пор я на все смотрела при дневном свете… или, лучше, при ярком свете веселого очага, вспыхивающем и танцующем по комнате. Бедняжка! – прибавила она со смехом, в котором сквозила меланхолия. – Я никогда уже не буду так весела, как в то время, когда я не знала еще кузины Гефсибы и бедного кузена Клиффорда. В это короткое время я сильно постарела. Постарела и, я думаю, сделалась умнее… и не то чтобы печальнее, но уже нет и половины прежней светлости в моей душе. Я отдала им свой солнечный свет и очень рада, что отдала его, но все же я не могу и отдать и сохранить его. Несмотря на это, я очень рада, что с ними сблизилась.
– Вы, Фиби, не потеряли ничего, что стоит хранить или что возможно сохранить, – сказал Хоулгрейв после некоторой паузы. – Первой нашей молодости мы не сознаем до тех пор, пока она минет. Но иногда – я думаю, даже всегда, если только кто-нибудь уж не очень несчастлив, – мы приобретаем чувство второй молодости, вырывающееся из сердца в пору любви; или, может быть, оно приходит к нам для того, чтобы украсить какой-нибудь другой великий праздник жизни, если только он есть. Это сожаление – как вот ваше теперь – о прежней беспечной веселости миновавшей юности и это глубокое счастье от сознания юности приобретенной, столь несравненно более сильной и роскошной, чем та, которой мы лишились, необходимы для развития человеческой души. В некоторых случаях оба эти состояния наступают почти одновременно и смешивают грусть и восторг в одно таинственное волнение.
– Я едва ли понимаю вас, – сказала Фиби.
– Немудрено, – отвечал, смеясь, Хоулгрейв, – потому что я высказал вам тайну, которую только что сам начал уразумевать. Помните ее, однако, и когда истина слов моих сделается ясна для вас, вспомните тогда об этой лунной картине.
– Уже все небо озарено лунным сиянием, кроме этого небольшого кусочка слабого красного света на западе, между этими строениями, – заметила Фиби. – Я должна вернуться в дом. Кузина Гефсиба не слишком сильна в арифметике и очень будет затрудняться дневным счетом, если я не помогу ей.
Но Хоулгрейв удержал ее еще немножко.
– Мисс Гефсиба сказала мне, что вы через несколько дней вернетесь в деревню.
– Да, но только на короткое время, – отвечала Фиби, – потому что я этот дом считаю теперь своим домом. Я еду устроить кое-какие дела и проститься не так торопливо, как прежде, с матерью и друзьями. Приятно там жить, где нас более желают и более находят в нас пользы, а я думаю, что здесь я и желанная, и полезная гостья.
– Вы совершенно можете быть в этом уверены; только вы не знаете, до какой степени вы здесь необходимы, – сказал дагеротипист. – Если только здоровье, удобство и естественный порядок жизни существуют в доме, то все это олицетворено в вашей особе. Благословенные Божьи дары нисходят на этот дом вместе с вами и оставят его, лишь только вы переступите через его порог. Мисс Гефсиба своим отчуждением от общества потеряла всякое истинное отношение к нему и решительно как бы умерла заживо, хотя она воспроизводит в себе подобие жизни и стоит за конторкой, хмурясь на свет с самым неумолимым видом. Ваш бедный кузен Клиффорд – тоже усопший и давно погребенный человек. Я нисколько не удивился бы, если бы он в одно прекрасное утро после вашего приезда рухнул на