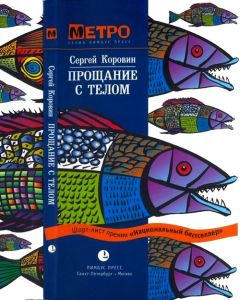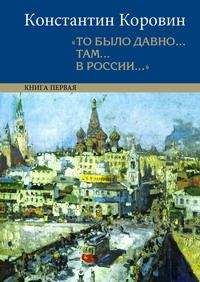Реакция девочки Оли на такой «наезд» вполне понятна, она все мгновенно по-женски прорюхала и поставила зарвавшуюся папашину любовницу на место: нашла чем хвастаться, я тоже трахаюсь, и, знаете, кто у меня был первый — ваш братец. Она подчеркивает: друг моего отца и ваш брат, то есть — мы с вами почти родственницы! И ее тоже захватывает идея вербализации чувственного путем раскрытия тайны интимной жизни.
Теперь посмотрим в ее дневник. Она пишет, что заснула среди дня в кабинете отца, что перед этим одна гуляла («мне казалось, что я одна во всем мире»), обедала, играла на фортепиано целый час, а потом пошла в кабинет отца. То есть, когда все уехали, Оля постепенно пришла в состояние сексуального возбуждения — одной гулять в поле и в лесу очень эротично, — она вся такая беззащитная, предполагается возможность какой-нибудь встречи, она может оказаться один на один с каким-нибудь незнакомцем, короче — неопределенные грезы. Далее, она не пошла ни к себе в спальню, потому что там просто нечего днем делать, ни в спальню матери, ни в спальню отца, потому что там сохраняются флюиды матери (даже мысль об их близости вызывает у нее отвращение, она же воспринимает мать как соперницу). Она пришла в кабинет, все там облазила и прилегла на диван со своей эротической добычей — в книжном шкафу наверняка нашлись книги, где можно отыскать подтверждения своим молочным догадкам о самом потаенном, например, двухтомник того же Плосса «Женщина», и прочитать, как дикие народы зашивают девочкам половые губы, или отрезают клитор, или лишают девственности нефритовым лингамом, полюбоваться уже в тысячный раз в анатомическом атласе на мужской половой хуй, порассматривать фривольные японские литографии и французские открытки. То есть она описывает прелюдию к любовной игре. Конечно, после этого она уже не может удержаться: одно дело регулярная мастурбация перед сном в узенькой девичьей постельке, а у папы на диване среди бела дня — совсем другое, это вам каждая гимназистка скажет. Ладно, не будем далеко забираться, да еще с фонарем, в эти потемки. И вот, раскрасневшаяся после «сна», она выбегает навстречу Алексею Михайловичу.
Ну, во-первых, случайно ли он приехал, когда родителей не было дома? Не исключено, что у него был дерзкий план эротического приключения: побыть с девочкой тет-а-тет, пока никого нет, потому что еще давно заметил, что Оля неравнодушна к взрослым мужчинам — кокетничает, норовит невзначай прикоснуться и тому подобное. Конечно, у него не было умысла трахнуть дочку приятеля, ему просто нравилось ее возбуждать — это, знаете ли, бывает очень славно и длится, длится. А коитус что? Коитус он будет иметь в другом месте, оживляя его пережитой близостью к этой девочке. Он же не мальчик и знает, что сколько стоит.
Но как же вышло, что он ее трахнул? Да очень просто — при его появлении девочку снова «потащило», она, как настоящая сука, захотела нового эксцесса, и уже все, что они с Алексеем Михайловичем делали: гуляли, чаевничали и т. д. — воспринимала опять же как прелюдию, не ощущая границ грезы. Короче, от нее шел такой дух, что было слышно за десять футов, и несчастный Алексей Михайлович, совершенно естественно, повел себя, как дворовый кобелек. Вот и все: он себя не контролировал, она абсолютно ничего не соображала.
Потом Оля напишет: «Я не понимаю, как это могло случиться? Я не знала, что я такая! Я чувствую к нему такое отвращение, что не смогу пережить этого». Где уж ей понять! Она столкнулась в себе с областью бессознательного, а потом ужаснулась, что кто-то проник в ее грезы, узнал потаенные желания — отсюда и неприязненное к этой персоне отношение.
Итак, запись сделана. Теперь подумаем, зачем она показала дневник офицеру? В той ситуации, когда их связь автоматически распадалась, нормальные девушки держат язык за зубами, им и в голову не приходит признаваться в цинизме. Однако Олю снова преследовало стойкое желание эротического переживания. У нее уже был опыт с гимназической начальницей: раз — и поставила ее на место тем, что шокировала, — очевидно, та просто онемела и не пошла рассказывать Олиному папе, чтобы не подставлять братца, — но этого ей было недостаточно. Да, без сомнения, она хотела чего-то подобного, но кто перед ней, не знала. А что же офицер? Он застрелил ее. Может быть, в его плебейской голове появилась идея выгодной женитьбы на богатой невесте, у которой папаша, небось, какой-нибудь влиятельный человек в уезде или губернии, а тут — раз, и все рухнуло. Какая у казака главная заповедь? Саблю, люльку, коня и жену не отдам никому! То есть убил «за измену» (и саблю бы сломал, и коня бы зарезал). Он, варвар, просто не понял, что перед ним наивный ребенок в маске взрослой женщины. Да, она, как настоящая, доставляла в постели удовольствие, но откуда ему было знать о том, что у девиц половые свойства появляются раньше, чем сердце и умишко.
Колька славился своим умением слушать даже то, что представлялось ему полной околесицей, и терпеливо ждал паузу, чтобы возразить. Но я не давал ему раскрыть рта, хотя сейчас был как раз такой случай — я это видел по его лицу, — и знал, о чем он хочет сказать.
Тогда я приплел еще трансцендентальную мотивацию, как в «Махабхарате», где вступление юной Кунти в добрачные половые отношения с Сурьей и тайное рождение Карны приводит к гибели как пан-давов, так и кауравов. Представляете, крушение великих родов начинается с потачки девчачьей похоти, с, вроде бы, невинной шалости, с маленькой слабинки, с нарушения честного слова, с недопустимого, с точки зрения морали, поступка, за которым все развивается в направлении, указанном катастрофой.
«Нет, это ересь какая-то, а не дискурс! — заорал вдруг Колька. — Что же, их и не ебать, что ли?»
Да нет, конечно, ебать, кто же их еще… хотел сказать я, но, в очередной раз оглянувшись, увидел, что Анька торчит в дверях и даже во мраке видно, что у нее очень недовольное лицо. Она большими шагами подошла к выключателю, зажгла абажур, потом также решительно подхватила со стола бутылку и объявила: «Коля, спать». Зажмурившись, он еще что-то пытался объяснять про весьма остроумное решение маленькой шарады, скрывающей имя рассказчика, без которого этот бунинский текст не имеет смысла, и про то, что я разработал замечательный метод анализа литературного произведения, но его взяли за рукав, а мне показали на дверь.
Я проснулся сильным, упругим, голодным, полным холодного ума. Солнце стояло где-то на половине девятого. За занавеской качались мелкие веточки, пляж шелестел плёской волной, пахло чистыми морскими далями и горячими булочками. Потом я увидел синие сандалики, которые валялись в разных углах, и подумал: «Черт побери! Я же едва не сдал Кольку!» Мне стало совершенно очевидно, что у меня в жизни совсем другая роль, а тут за два дня столько историй. И я понял, что меня так тяготит в этой ситуации: мне опять приходится врать, ну, то есть о чем-то молчать, что-то недоговаривать, обходить некие имена, которые, кстати, мне очень трудно не употреблять, потому что это Колька и Анька, а не просто какие-то знакомые уроды. Ну, это еще полбеды, а что я буду делать, если Бабайка меня, не дай бог, спросит: «Ну, и где твой дружочек Николай Васильевич? А Анька? Куда они делись?», или: «Покажи, где твой дом», а? Нет, к черту тайны, к черту конспирацию! Или я уеду к ебене матери!
У меня, кстати, действительно много дел: перевод несчастного Burgess’a сделан только наполовину, даже меньше; к августу я наобещал закончить своего «Катастрофиста», но застрял в четвертой главе; потом, Анька требует предисловие к дурацким Колькиным афоризмам — немедленно! Когда все будет делаться? И в первую голову нужно поехать поднять спиннинги — они же свалились с причала — катушки жалко. Сезон жалко, всё прахом! Нет, за завтраком придется ей что-нибудь наплести про крайнюю занятость и сваливать. Во всяком случае, установить пристойную дистанцию.
Но в столовой я ее не увидел. Мне было неловко справляться, да и у кого, не у этих же шведских куриц, которые вылупились на меня, будто я какой-нибудь артист или футболист — просто глаз не сводили, и я решил сам провести негласное дознание. Наскоро откушав благопристойной кашки с ломтиком маасдама и парой скромных яиц, выцедив с расстановкой стаканчик с четвертью оранджджуса под бесстыжими взглядами, я одарил все стадо сияющей улыбкой и поспешил в наш темный коридорчик.
Другой бы на моем месте просто вежливо постучался в дверь: «Не дрейфь, детка, открывай — папочка пришел», а мне почему-то захотелось подойти на цыпочках и прислушаться. Кстати, первое, что я заметил на подходе, это легкие, почти незаметные следы кроссовочек тридцать шестого размера. Свет проникал через стеклянную дверь в том конце коридора, и у крохотных невидимых песчинок перед ее номером появились тени. Их было буквально несколько штук по окружности и намек на расходящиеся лучи — я ее подошвы видел. У меня опять все застучало внутри — знаете ли, всякие маленькие детали могут открывать великие тайны. Я в этом уже убедился. Тем более что следы свежие — здесь протирают пол чуть не на рассвете, во всяком случае, до завтрака, потому что полы и тарелки моет одна тетка. Значит, моя чудненькая игрушечка уже куда-то выходила и возвращалась. И сейчас ее тоже нет. Для верности я слегка повернул ручку замка — дверь не поддалась. «Черт, где ее носит?» Нет, я не терзался ревностью и вообще нисколько не волновался из-за ее отсутствия — может, купаться пошла, может — гулять — куда она денется? Я еще раз тряхнул ручку, и тут меня осенило: идиот, а если она!.. — и кинулся к своей двери. Но и в моем номере было пусто, только воздух помещения наполнял никем не занятую постель, кресла, диван, холодную ванну и прочее.