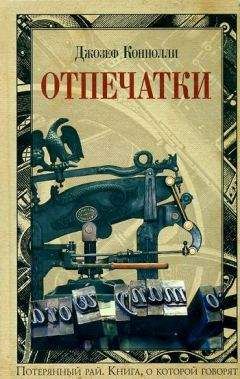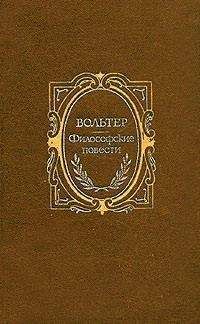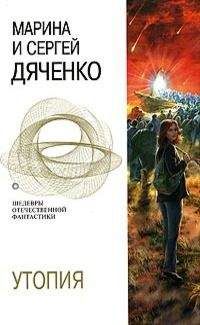— Черт! — выдохнула Кимми, когда они вернулись. — Я уж думала, вы спать завалились. Дай мне «Фиг Ньютон»[25] — надо поднять сахар. Два «Фиг Ньютона». Послушай, До, — как тебе картинки? Не хуже последней партии? Лучше? Что скажешь, Мэри-Энн? Мне нравится эта. Я люблю, когда много красного.
Дороти поставила поднос. Все трое принялись грызть печенья и разглядывать свежие полотна, выстроенные вдоль стены.
— По-моему, хороши, — заключила Дороти. — Галереям понравятся. Эти, полосатые, самые коммерческие, да?
— Коммерческие! — загоготала Кимми. — Ты что, смеешься? Они проданы еще до того, как я их вывешиваю. Я на реальном подъеме. Я тебе говорю — эти детки продаются так быстро, что я не знаю, наберется ли сколько надо для выставки. Улетают по пятнадцать тонн за штуку, грех жаловаться. Что-то кофе подостыл…
— Правда? Извини. Мы заболтались. А как дела с кубом, Кимми? Ты собираешься — это будет серия?
— Пожалуй, можно. Глянем, как пойдет, да?
— Я не… понимаю, — сказала Мэри-Энн. — В смысле — мамочка один раз мне объясняла, но я все равно не совсем поняла. То есть — если Лин и Ларри делают все эти вещи, как получается?..
— Ха! — засмеялась Кимми. — Как получается, что я ставлю на них свое имя, а? Детка — ты не оригинальна. Понимаешь, солнышко — искусство, сама суть искусства, да? Сейчас все пересматривается — все меняется по серьезу. Сейчас самое главное — концепция. Идея. Понимаешь? Так вот, куб. Я думаю: эй, перспексовый куб с перьями. Кто-нибудь уже такое делал? Ребятки из «Бритарта»?[26] Кто-нибудь? Вряд ли. Так почему бы и нет — и кто знает? Мы имеем огромный успех, запускаем серию — красный куб, зеленый, синий — въезжаешь, солнышко? Может, перья как-нибудь меняем. И в результате у нас на руках икона. Мы продаем ее за сколько? Скажем, тысяч за восемь или девять, самый первый — прощупываем почву. Мой агент, Марти, да? Он забирает три себе, потому что он маленький жадный сутенер и ворюга — но знаешь что: я его просто обожаю, вот что я тебе скажу. Ларри — ему мы дадим пару сотен, Лин получит сотен пять-шесть, допустим, за то, что, ну, все вместе собрала… а остальное, сладенькая моя, достанется мамочке. Нам. Тонны четыре. Ну как, круто? Поэтому я так думаю: концепция, детка. Отлично! Так что — Рембрандт? Ван Не Смог? Грызите локти, ребята. Понимаешь?
В охристом полумраке самодельной обшитой досками спаленки Майка и Уны Киллери витал сладкий и тошнотворный душок, и он им нравился — вероятно, они даже нуждались в нем. Лишь когда друзья и соседи совали нос в дверь — Тедди и Джуди, например, или, может, Дороти (и крошка Мэри-Энн, она искренне его ненавидела, маленькая дурочка) — кто-нибудь высказывался по поводу синих и ленивых толстых языков пламени в основании восстановленной «Розовой керосиновой лампы Аладдина». Сами (особенно когда впереди маячила зима) Майк и Уна очень любили погрузиться в слегка головокружительную вялость, что обволакивала их шалью (и они укутывались в нее — уюта ради, а также прячась от неприятностей). Вам не кажется, что вы от нее заболеваете? — озабоченно спросил бы их кто-нибудь. И Майк ответил бы: нет. Или что от нее у вас ужаснейшая пульсирующая головная боль? И Майк с улыбкой воздел бы бровь и наклонился к Уне — а Уна, она тоже улыбнулась бы томно и сказала бы: нет.
Но сейчас у них никого. По крайней мере, в глубине, ближе к задам их замысловато вырезанной кроличьей норы комнаток и кривых коридоров. Потому что, о да, — Майк был совершенно уверен, что кто-то вполне может околачиваться в гостиной в этот самый миг (часто они так и делали, если по правде, потому что, несмотря на их разговоры, просто удивительно, сколько здешних обитателей было искренне очаровано этим драгоценным кусочком старой доброй Англии, запаянным в янтаре). Тедди, я знаю, все это кажется таким домашним — говорит, хотел бы, чтоб его комнаты были такими же. И Джон, старина Джон — Джон и эта его вертихвостка, Фрэнки, да? Ну — если речь о Джоне, «прикован» — не слишком сильно сказано. Поначалу-то нет — но видели бы вы его сейчас. И это взаимно, правда, потому что в последнее время я и впрямь начал жадно ловить каждое его слово — поскольку знаете что: он взаправду прошел, понимаете, Джон — он взаправду жил во время всего шоу. Нет, конечно, когда война кончилась, ему могло быть всего сколько?.. Никто, по-моему, точно не знает, сколько человеку лет (а не будешь ведь спрашивать, верно? Если человек сам не скажет, вы не спросите), но, допустим, ему лет шестьдесят пять, да? Что довольно близко к среднему по догадкам. Ну ладно, хорошо, — отнимем шестьдесят пять от, гм, — какой сейчас год? Две тысячи, э… ну ладно, короче, в любом случае суть более или менее в том, что он был ребенком, школьником, может, лет восьми или девяти, когда мы наконец поставили фрицев на колени (а это немногим меньше, чем возраст Мэри-Энн, я совершенно уверен — и всего на год больше, чем было бы нашему малышу Джереми, вот оно как. Сейчас. Да. Да. Седьмой день рождения в следующем месяце, двадцать третьего. Но он даже второго не встретил, малыш Джереми. Что ж. Вот так вот. Не могу). То, о чем я говорю, однако, не имеет, нет — с этим вообще ничего общего. Я это к тому, что, ну — вот вы помните себя восьмилетним, ведь правда? Детские воспоминания. И семилетним. Некоторые люди, говорят, помнят себя даже в три года. О себе я бы такого не сказал. Я довольно ярко помню все, начиная с — ну, лет шести или около того, да, точно. «Бэй Сити Роллерс», Гэри Глиттер, серебряный юбилей королевы[27] — такого рода кошмар. Боже правый — только представьте, что помнит Джон, — бомбы сыплются дождем и прочее (и думать не смейте, будто я его не спрашивал. Господи, в наши дни — Фрэнки может меня убить — я не оставлю беднягу в покое). В воспоминаниях есть кое-что интересное: вот вы послушайте. Сначала Джон сказал мне: нет, извини, Майк, — я бы с удовольствием помог, честно — облек бы плотью кой-какие вещи — но я ничегошеньки не помню, мне очень жаль, но увы. Столько лет прошло, у меня мозги виски заплыли: тебе от них никакого проку, старина (это он так говорил). Но потом — потом он пришел и увидел вещи, да? Один лишь взгляд на эти старые жестянки «Кросс и Блэквелл», которые я раздобыл, — в одной ревень, и еще бобы есть — все с такими крошечными, грубо отпечатанными этикетками (это из-за дефицита бумаги — я вам как-нибудь расскажу)… а потом, когда он увидел коробку яичного порошка — а рядом мутную бутылку рыбьего жира, о боже мой — воспоминания изверглись из него, практически эдакие стилизованные рвотные позывы — отложенная реакция, так он это сформулировал (ибо он подлинный джентльмен, наш Джон) на трудные времена, да, — а затем он расцвел такой теплой ностальгической улыбкой — приятно посмотреть, — и вдруг начал рассказывать о ярком летнем солнце на свежескошенной лужайке и о зубодробительном жженом сахаре, купленном на фартинг по драгоценным купонам его матери — и «Спам», и никаких бананов, и старый плакат «Копай для победы»[28] (который висел на каждом углу, сказал он как-то раз: мне пришлось обойтись репродукцией шестидесятых), и свистящие, грохочущие страшные передачи, когда после чая все собирались вокруг радиоприемника. Иногда его не остановить, нашего Джона, что — о, не могу выразить, как это великолепно. Однако он может внезапно опечалиться, понимаете? Как бы поникнуть слегка. И тогда он говорит: о господи, я говорю тебе, Майк, — я ощущаю себя таким ужасно старым… И тут обычно вмешивается Фрэнки, целует его в сияющую розовую лысину и говорит: да ладно, Джон, ради Христа, — давай лучше свалим из этого затхлого старого музея (без обид, Майк, — я ничего такого не имела в виду, Уна), возьмем тачку и завалимся куда-нибудь повеселиться, а? Вполне естественно в ее годы. Но все равно странно, правда? (Лично я считаю, что странно.) Ну, понимаете — что некоторым людям нравится в жизни. И что других оставляет совершенно равнодушными.
Боже мой. Откуда это все только взялось? Я ни о чем таком и говорить-то не собирался. Потому что я не про Джона и не про войну хотел поговорить — нет, я хотел поговорить об Уне, о моей Уне. Я, собственно, хотел сказать (ах да, я вспомнил, как мы забрели в эти дебри), что кто-нибудь вечно болтается по дому (я это называю домом), потому что, ну, думаю, теперь ясно — просто здесь так заведено: проходишь мимо и заскакиваешь. Так это работает. И это накладывает отпечаток. Так особенно. Но, очевидно, бывают минуты, разве нет, когда тебе нужна капелька уединения (вполне естественно), и в этом смысле наш дом имеет преимущество над всеми прочими, нереставрированными пространствами, понимаете? Сказать вам, что мы делаем? Мы просто вешаем эмалированную табличку на двери спальни: я нашел ее на Портобелло-роуд.[29] Она гласит синим по лимонному: «Извините, мы закрыты — не продаем даже чай „Лайонз“.[30] Мы откроемся в…» А под надписью, видите, такой как бы циферблатик, нужно только подкрутить стрелки на нужное время. Прекрасно в своей простоте (не то что в наши дни). На самом деле, может, она и послевоенная, эта табличка (парень, у которого я ее купил, считал, что она 1950 года — быть может, конца сороковых), но все равно сокровище, как по-вашему? Мы ее обожаем. В общем — теперь люди знают, понимаете, что надо держаться чуточку на расстоянии, когда висит табличка чая «Лайонз». Конечно, потом все над нами подшучивают, ну разумеется: ну как, вам понравился чай? Освежающая чашечка, не правда ли?.. И все в таком духе (хуже всех Джуди). Но на такие шутки отвечаешь добродушно, да? Надо признать: на том и основывается наука ладить с людьми.