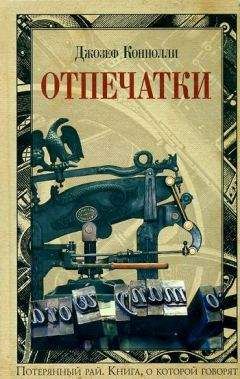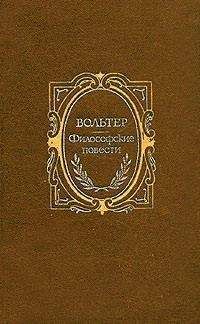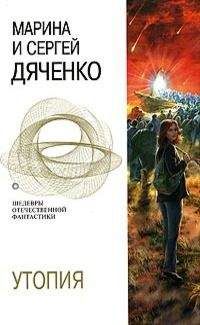— Отлично. Супер. И да — спасибо, Ларри, ага? — сказала Кимми, выпроваживая их и не сводя заинтересованного глаза с бесконечно забавного зрелища — аккуратного, но довольно плоского задика Лин, ходившего вверх-вниз ходуном под плотно облегающими, тесными, черными как ночь лакированными джинсами — которые, как Кимми как-то раз клялась Дороти, Ларри наверняка ежеутренне зашивает на Лин, пока та затаивает дыхание (или, может, я не знаю — она их просто никогда не снимает). Лин, разумеется, семенит — характерно, как все японки: на вид ей как будто больно, да? Как будто долго-долго скакала на ком-то диком, а он брыкался.
— Пошли, До, — сказала Кимми, потянув на себя дверь, но до конца не закрыв. — Садись рядом и остынь, хорошо? Я разожгу огонь, так будет лучше. — А потом добавила громче, чтоб ее расслышали поодаль: — Эй, Мэри-Энн, моя сладкая булочка, — как там дела с кофе?
— Прости за то, что я устроила… — жалобно произнесла Дороти, утонув в глубоком и очень длинном диване, обитом кремовым ситцем, — который столь многими вечерами сжимал в объятиях всех троих, а иногда еще Майка и Уну.
Кимми сидела на корточках и свертывала в трубочки страницы, выдранные из старых глянцевых журналов — а может, и из новых, мне лень проверять, да и какая, нафиг, разница? А сейчас она расторопно бросала их в пасть здоровенной черной чугунной пузатой печки, квадратной, ухмыляющейся на своих больших, толстых, широко расставленных львиных лапах.
— Эй, До, — это же я, не забыла? Вообще не нужно извиняться.
— Ну… просто я в таких ситуациях всегда чувствую себя — уууу… непроходимой идиоткой. Особенно с незнакомцами. Я когда-нибудь — а? Кимми? Как по-твоему, я когда-нибудь перестану думать об этом негодяе? Вот было бы здорово — просто не описать, как здорово, если б можно было просто влезть себе в голову и выкинуть из нее всю боль, и беспокойство, и обиду, и, ох — боль… и сложить их куда-нибудь подальше, в коробку, например, а потом, блин, спокойно себе жить дальше. Потому что жизнь хороша, да, — я это знаю, не надо мне говорить. Если бы не он. Просто это так тяжело — тащить это все. Если он — если он ушел, то почему он тогда не может просто уйти?
— Я тебе говорила, До: пусть это тебя не волнует. Ну просто — он этого не стоит. И кстати — кто из них стоит?
Дороти вроде как засмеялась (и вроде как храбро), рассеянно щупая уголок одной из трех новых картин на столе.
— Куб хорош, — сказала она, бросив взгляд на оранжевую перспексовую коробку, набитую до краев туго закрученными перьями. — Они куриные, перья?
— Без понятия, — ответила Кимми. — По-моему, она говорила, что гусиные. Я не спрашивала.
— Она ужасно хорошенькая, Лин, правда? — легкомысленно спросила Дороти. — Мне всегда так казалось.
Кимми уже запалила огонь, и через несколько секунд яркое жаркое потрескивание заполнило пустоту — словно огромный зубастый рот монстра целиком пожирал мерцающие тыквы.
— Она так не думает, — ответила Кимми, падая обратно на диван, почти на Дороти, чьи волосы тут же принялась лениво теребить. — Однажды она мне сказала, что порой по-настоящему — ну, ненавидит то, как она выглядит, представляешь? Ей кажется, что у нее такой вид, словно кто-то со всей дури вмазал ей сковородой по лицу. А по мне, так она очень пикантная. Парням такие нравятся.
— Ха! — фыркнула Дороти. — Парням! Да им любые нравятся, а? Поначалу. Парни. Ха! Может, мне стоит — да, так я и сделаю, — внезапно решила она, взвившись и немедленно успокоившись. — Пойду и помогу Мэри-Энн — малышка может принести только одну кружку. Пойду и поставлю все на поднос. Печенья хочешь?
— Конечно… — согласилась слегка теперь занятая Кимми, которая критически щурилась на три новые картины. — Печенье. Здорово. Ну еще бы…
За неполной перегородкой, двумя ступеньками ниже, располагалось бесконечное, балочное, с высокими сводами пространство, которое они называли кухней. На самом видном месте стояла большая стальная промышленная плита с четырьмя духовками и блестящим коническим навесом — Кимми привезла ее из своего старого дома в Фулеме, и никто никогда на ней не готовил. Высокий американский холодильник, однако, был при деле — они зависели от него (он был их спасительной нитью), ибо Кимми и Дороти постоянно что-нибудь грызли, и, конечно, из-за ароматизированных кубиков льда для Мэри-Энн, которая теперь добавляла их, кажется, абсолютно во все — даже в кукурузные хлопья, положенные ей во время вечернего чая (а особенно они полюбились ей с шоколадным молоком). Дороти обрадовалась, что пришла вовремя — электрический чайник громко заворчал, угрожая катапультироваться прежде, чем выключиться, — потому что маленькая Мэри-Энн, она вполне справлялась (она справлялась и прежде), но все же Дороти никогда не была вполне довольна — непросто было сдерживаться, когда Мэри-Энн храбро и крайне осторожно снимала чайник, сосредоточенно сдвинув брови.
— Дорогая, дай мамочке. Можно, я закончу, хорошо?
Мэри-Энн лишь пожала плечами и уступила место матери.
— Что ты думаешь об этом мужчине, — заявила она (поскольку это не был вопрос — нет, это было заявление). — О новом человеке. О Джейми. И еще другие, мне Уна говорила. Еще трое, и один из них — повар.
— Слава богу, — ответила Дороти, вываливая на большую квадратную тарелку сладкое сахарное печенье, которое очень нравилось Мэри-Энн, я совершенно уверена, но Кимми им просто никак не насытится. — Если опять эта кошмарная тушенка!.. Уже и комплименты говорить сил нету. Бедный Майк.
— Так странно, — серьезно произнесла Мэри-Энн, — когда приходят новые люди. Мне нравится только с теми, кто уже пришел.
— Ну, я тебя понимаю, дорогая, — посочувствовала Дороти (конечно, дорогая, потому что я сама это чувствую). — Но ты должна помнить, что мы — мы сами когда-то были новичками, помнишь? Совсем недавно. И ты помнишь, какими ужасно добрыми все были к нам? И как мы с ними поладили? Теперь мы должны вести себя так же, правда? Иначе, понимаешь, — иначе печать на всем не та. К тому же — всех их выбрал Лукас, верно? Это очень важно.
И Мэри-Энн заметно просветлела.
— Да, — кивнула она — уже решительнее и, кажется, вполне довольная (не странно ли, поразилась Дороти: все эти американские горки детских настроений?) — Да. А если их выбрал Лукас, значит, они точно хорошие, правда, мамочка? Лукас никогда не ошибается. Хочу, чтобы все были как Лукас. Правда, чудесно было бы?
— Да… — замялась Дороти. — Да. Да — наверное, было бы чудесно. Но у нас ведь есть настоящий Лукас, верно? И его нам всем за глаза хватит. Человеку нужен только один Лукас.
Мэри-Энн яростно закивала.
— Он… великий, — безапелляционно провозгласила она. И, глядя на Дороти, твердо прибавила: — Я его ужасно люблю.
— Да, он такой, — согласилась Дороти. — И мы все его любим. Пойдем, солнышко, — поднос у меня, так что просто неси за мной печенье, хорошо? Ай! Осторожнее, милая… не тяни так мамочку — я чуть все не уронила. Ну что такое, Мэри-Энн?
И ее глаза, ах, ее глаза — когда глаза Мэри-Энн снова уперлись в нее, такие огромные, круглые, вот-вот брызнут слезами, от которых, Дороти знала, она и сама немедленно разрыдается… в этот миг она почти ненавидела своего трижды проклятого мужа, далекого отца этого хрупкого существа. Почти, да — но никогда, о черт, никогда совершенно. Если бы только она могла срезать с себя лохмотья былой нежности и заботы, броситься в пропасть, в бездну, в грязь, взорвавшись каскадом раскаленных докрасна брызг чистой, злой, острой, как шипы, ненависти — быть может, ее излечило бы подобное кошмарное прижигание? Нет. Не судьба. Похоже, она обречена на выматывающую слабость и болезненные воспоминания обо всем, что она в нем любила и так хотела вернуть.
— Лукас… — начала Мэри-Энн медленно — будто сомневалась, вдруг то, что она собиралась произнести (даже прошептать, и только мамочке), — грязно и порочно. — Он ведь никогда, правда, мамочка? Никогда от нас не уйдет.
По крайней мере сейчас Дороти могла во всю глотку дать выход своему осуждению столь дикой и невообразимой мысли.
— Лукас? о господи, Мэри-Энн — о чем ты говоришь? Мы же все собрались здесь только благодаря Лукасу. Гм? Лукас — это и есть мы, правильно, дорогая? Как он может нас покинуть?
— Я знаю… я знаю, мамочка, конечно, знаю. Просто иногда… некоторые люди уходят. Я вот что. Хотела сказать.
— Я знаю, цыпленочек. Я знаю. Слушай, пошли уже — бери печенье и пошли, ага? Вот умница. Бедняжка Кимми — она, должно быть, уже в отчаянии.
Примерно так и оказалось.
— Черт! — выдохнула Кимми, когда они вернулись. — Я уж думала, вы спать завалились. Дай мне «Фиг Ньютон»[25] — надо поднять сахар. Два «Фиг Ньютона». Послушай, До, — как тебе картинки? Не хуже последней партии? Лучше? Что скажешь, Мэри-Энн? Мне нравится эта. Я люблю, когда много красного.