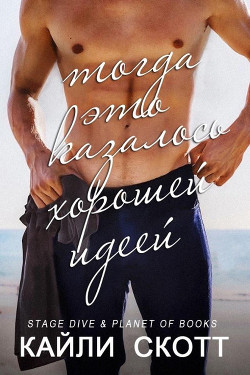скамейке в одном из дворов, считая горящие окна и пытаясь найти закономерности или фигуры из тетриса. Я знал, что меня давно ищут, подняли тревогу и наверняка накажут за столь позднее появление, но всё равно не шёл, потому что лучше так, чем учить уроки. Не дай бог, я ещё и двойку отхватил, тогда наказание будет в два раза страшней, ведь если я просто пропал, все будут рады, что вернулся, а вот крыть двойку мне нечем. И я сидел: упрямый, озябший, голодный. Все мои друзья разошлись уже по домам, уплетали свой ужин, получали подзатыльники за опоздание, выговоры за двойки, похвалы за пятёрки, а я всё сидел и глядел на окна, думая о людях, которые живут за ними.
В подъезде, соседнем от моего, на втором этаже виден был зелёный абажур под потолком, делающий свет из окна зеленоватым. В квартире над ней была обычная жёлтая лампа, а ещё выше свет из окна был красным из-за алых штор, и этот светофор был самой родной картинкой, по которой я из тысячи, из миллиона подъездов узнал бы свой, окажись так, что я забуду, в каком доме живу (случись так, что грабитель ударит меня по голове, и я запутаюсь в этих почти что одинаковых домах).
Я никогда не узнаю, что за люди живут за этими окнами. Я знал в лицо некоторых своих соседей – из нашего подъезда и немного из соседних, но не знал их имён. В основном то были знакомые моих стариков, ещё с тех времён, когда соседство было чем-то большим, чем немым сосуществованием рядом друг с другом. Многие из них казались мне смутно знакомыми, но мало с кем я здоровался.
Это всегда было неловко и как-то странно, потому что их лица были декорациями ко многим годам моей жизни, но я так и не удосужился узнать, кто они такие и чем живут. Когда я вернулся в Россию, я видел, что многие пожилые люди улыбаются, встретив меня на улице, и в их улыбках читалось что-то вроде: «Ну вот ты и вернулся, сынок». Некоторые смотрели заинтересованно, а кто-то рассматривал пристально, прищурив глаза, то ли пытаясь вспомнить, кто я такой, то ли пытаясь разглядеть признаки того, что я вернулся завербованным агентом Запада)).
Помню, у нас на первом этаже кто-то умер. Во двор ворвалась скорая с ревущей сиреной, санитары скрылись в подъезде, вынырнули спустя полчаса с кушеткой на колёсах и огромным чёрным мешком на ней. Мы с пацанами гоняли мяч неподалёку, но в ту секунду остановились как вкопанные, бросили игру в самом разгаре и побежали к бело-красной Газели, в надежде увидеть лицо мертвеца. Санитары отогнали нас, сказав что-то грубое, матерное, шикнув и махнув рукой.
Вечером я узнал, что умер дядечка из квартиры по левой стороне от лестницы, ведущей от входной двери к лифтам. Его-то я хорошо знал, потому что жителей первого этажа уж точно запоминаешь: они входят вместе с тобой и никогда не поднимаются на лифте, сразу идут к дверям. Они недовольно смотрят на тебя при встрече, и всякий раз, заходя домой поздно ночью, ты стараешься несильно греметь дверью, представляя, как они вздрагивают в своих кроватях. Они выглядывают из-за решёток своих окон во двор, часто прикрикивая на шумную детвору или подавая через решётку яблоки, привезённые с дачи в двух вёдрах и брезентовом мешке (если год выдался урожайным и теперь никто не знал, что делать со всеми этими яблоками).
Дядечка этот был очень добродушный, всегда трепал меня за щеку и приговаривал: «Ох, ну ты подрос, брат, подрос!» Даже когда я уже три года, как совсем не рос. Каждый раз, ожидая лифта, я думал о том, что все двери в подъезде – железные, а его – деревянная (о том, что все железные, я точно знал, ведь не счесть сколько раз я вприпрыжку спускался со своего этажа на улицу, да и поднимался наверх). «Может быть, он живёт плохо? А может, она ему просто нравится», – размышлял я, пока не подходил лифт, и тогда вместо скучных размышлений я плавил пластиковые кнопки спичками, царапал деревянную отделку лифта ключом, лепил сотую жвачку на решётку вентиляции или пихал камешки, припасённые в кармане, в щель между дверными створками, которые никогда не закрывались до конца. Я даже и не знал, как его звали…
Ещё был случай за одним домом, на окраине нашего района, у самого леса. Вокруг одного богом забытого места за трансформаторной будкой уже который день кружили собаки и что-то копали, нюхали. Мы решили, что там клад, и, дождавшись момента, когда собак не будет рядом, подошли, обнаружив чуть раскопанную землю и что-то жёлтое на дне этой ямки, воняющее тухлятиной, окружённое стайкой назойливых мух. Мы тыкали туда палками, оно было упругим, не твёрдым, и мы не могли понять, что же это, пока один из нас не крикнул, что это кожа мертвеца, и мы, со страху побросав палки, с воплями ринулись прочь.
Мы тогда хотели пойти в милицию, но так и не дошли, но и без нашей помощи, через несколько дней, доблестные стражи закона обнаружили это место, и вскрылось, что там был закопан чей-то труп. Подробностей мы не знали, но по району ползли самые ужасные слухи–от истории об убитой учительнице соседней школы (на самом деле старушка скончалась от сердечного приступа двумя неделями ранее) до рассказов о страшном маньяке, который якобы бродит по нашему лесу и закапывает ещё живых людей в землю.
Много всего было, понимаете?
Были горячие водопроводные трубы. Огромные, вынесенные из-под земли на ремонт и зависшие на три года по периметру всего района. Всю зиму мы сидели на них, потому что так было куда теплее, писали маркерами свои имена, матерные слова, рисовали обидные рисунки и рассматривали то, что оставили другие. Играли в гонки по трубам: один становится на холодную, другой – на горячую, и каждый бежит до поворота, обозначив финиш прыжком в снег. По ночам на них спали собаки…
Собаки… Ах да, собаки.
Бездомных собак было очень много, и многие из них были нам знакомы, даже имели клички. Неподалёку была заброшенная военная часть. Когда разваливалась страна, многие части так и оставили стоять заброшенными и обрастать сорняком да плесенью. Всё добро забрали, оставив здания с кое-какой мебелью, забор с колючей проволокой, тёмные, наглухо запертые ворота с красной звездой, а ещё оставив собак, постепенно становившихся волками. Наверное, в части рядом с нами готовили пограничников.
Те собаки, что были постарше, ещё помнили человеческий авторитет, слушались команд и