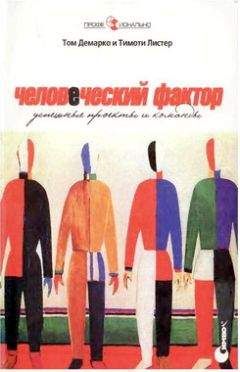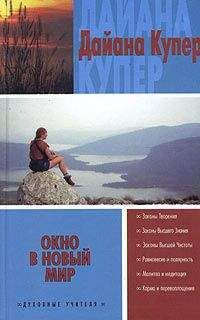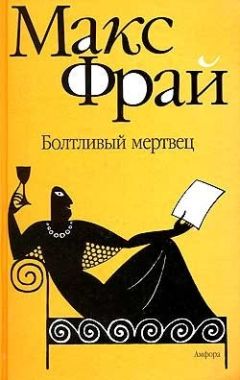* Принцхорн Ханс (1886-1933) – немецкий психиатр и психоаналитик. Изучал, в частности, “патологическое искусство” и собрал обширную коллекцию произведений душевнобольных. В настоящее время это собрание (около 5000 работ) находится в Гейдельбергском университете.
Или, скажем, поверх перекрестка «Семи циферблатов» написано достаточно крупными буквами: «Истина очень проста», – и от этой центральной фразы лучами расходятся семь улиц-цитат. «Истина очень проста: у меня в жизни был только один идеал – стать мужем, жить исключительно для того, чтобы жениться. Но смотрите, что получилось: пока я отчаянно стремился достичь своей цели, я стал писателем, и кто знает, быть может, даже великим писателем» (Кьеркегор); «Истина очень проста: необходимо мыслить вопреки разуму» (Гастон Башлар); «Истина очень проста: стоит ли жить, если надо работать?» (Андре Бретон) и так далее, по кругу. Я нарисовал несколько станций метро, но вместо надписи «Лондонской метро» поместил над входом высказывание Пьера Реверди: «Сон – это тоннель под реальностью».
Цель этих цитат – помочь иностранцу, впервые попавшему в Лондон, найти нужное место в городе. Я горжусь этой работой и считаю ее шедевром, новаторски соединившим в себе картографию, литературу и мои личные воспоминания. Например, на моей схеме присутствует паб в Сохо, где Де Квинси встретил проститутку Анну, а я – Кэролайн. Дом Кэролайн в Патни закрыт, его дверь заколочена досками. Алистер Кроули ждет кого-то у входа в «Пшеничный сноп». Прекрасная женщина-вампир выглядывает из окна квартиры Оливера на Тоттенхэм-Корт-роуд. На Бонд-стрит обозначена галерея Нью-Барлингтон. Клайв машет рукой из окна своего кабинета на Бромптон-стрит. Мелдрум, Фрейни и Хьюджес проводят совещание у себя в конторе на Грейт-Портленд-стрит. Неподалеку от входа в Грин-Парк стоит «Колесница» Хорхе. На общем фоне выделяются две детали: музей восковых фигур мадам Тюссо к северу от лица Кэролайн, а к югу, в том месте, где должен располагаться клуб «Дохлая крыса» – голый холм с пустым крестом на вершине, под которым рыдают коленопреклоненные женщины. Сент-Джеймсский парк сразу под этой Голгофой из Сохо имеет округлую форму. Этот круг можно крутить и тем самым содействовать осуществлению случайных встреч. И, наконец, во всех четырех углах карты стоят архангелы с надутыми щеками. Смысл в том, что когда они дуют, создается божественный ветер, который толкает людей друг к другу и разносит их в разные стороны.
Существует еще одна, как бы сопутствующая картина под названием «Лондон после бомбежки», на которой я изобразил себя в компании женщины в белом, чье лицо скрыто густой вуалью. Мы с ней стоим перед моей схемой Лондона, только все ее персонажи мертвы, большинство зданий разрушено, а цитаты на улицах перемешались и превратились в бессвязную мешанину из слов. Другие работы того периода включают, в частности, «Совокупление мыслеформ», где каждый квадратный дюйм на пространстве картины покрыт обнаженными человеческими телами, сплетенными в безупречной органической мозаике, и «Мистер Зорг сражается против фашизма», на которой я изобразил Оливера в цилиндре и черном плаще фокусника: он стоит на подступах к светлому замку и готовится принять бой с тучей клубящейся темноты, в которой едва различимо проглядывает фигура закутанной в черное женщины. И, наконец, стоит упомянуть «Глаза доктора Акселя», на которой мужчина и женщина пойманы, словно в ловушке, в огромных полукруглых глазах безумного доктора.
После того, как мне отменили электрошоковую терапию, я вдруг осознал, что мне в этой клинике не хорошо и не плохо -вообще никак. Я не пытался сбежать, хотя более чем уверен, что моих гипнотических способностей на это хватило бы. К концу первого года мне разрешили свободно ходить по зданию и по саду, но зеркало дали только на втором году «заключения». То, что я в нем увидел, меня встревожило и напугало: лицо – точная копия моего, но я знал, что это чужое лицо, не мое. Там, в зеркале, был не я. Не настоящий я. В отражении напрочь отсутствовала моя личность. Я не знал, чье это лицо – вероятно, лицо моего двойника, – и поэтому оставил его запертым в толще зеркального стекла, и больше к нему не возвращался. Это была небольшая потеря, поскольку к тому моменту я уже отказался от мысли об усовершенствовании своих гипнотических способностей. Вместо этого я самозабвенно писал картины, проявлял терпение и впервые в жизни читал газеты. С нарастающим беспокойством я следил за развитием событий в Европе: спешная эвакуация испанского правительства в Барселону, «Берлинский пакт» между странами Оси, присоединение Австрии к Германии, кризис в Чехословакии, Мюнхен, падение Испанской республики, кризис в Данциге, вторжение немцев в Польшу, вступление Великобритании в войну и период странной войны. К зиме 1939-40 годов у меня было только одно желание: выбраться из лечебницы, – потому что я хорошо представлял себе, что будет, когда немецкие войска войдут в Лондон. Врачи, связанные с СС, прочешут все психиатрические больницы, соберут в одном месте всех дегенератов, кретинов и психов и умертвят их посредством инъекций цианида.
Ударившись в панику, я принялся рисовать самые обыкновенные портреты персонала клиники и деревья-цветочки в больничном саду. Если я был уверен, что за мной никто не наблюдает, я разговаривал сам с собой, усердно практикуясь в поведении нормального человека.
– Как поживаете?
– Спасибо, хорошо.
– Как сегодня чудесная погода!
– Да, погода интересует меня чрезвычайно… нет, я хотел сказать, что, как и всякий нормальный человек, я обращаю внимание на погоду.
И так далее, и тому подобное.
Но, как оказалось, я зря волновался. В самом начале 1940-го года нам объявили, что Милтонская больница будет преобразована в военный госпиталь. Все, кого можно было отправить домой, были отправлены домой. Я попал в число тех, кого посчитали условно пригодными для жизни в нормальном обществе.
Милтонская больница – это машина времени. Когда я вошел туда, в Англии был мир, а когда вышел (весной 1940-го года), то вдруг обнаружил, что иду по незнакомому, странному городу, как будто выпавшему из реальности: в небе над Лондоном колыхались аэростаты заграждения, похожие на воздушных динозавров, газоны в парках и скверах были перекопаны под огороды, все таблички с названиями улиц куда-то исчезли, в городе не осталось ни одного указателя. Иногда мне казалось, что это совсем другой Лондон, и несколько раз я сбивался с пути,сворачивая не туда.
Я поступил в Милтонскую лечебницу в 1937-ом году, на сле-дующий день после последнего сборища «Серапионовых братьев». До этого несколько лет я почти не общался с людьми, не входившими в братство, и сейчас вдруг оказался один в чужом, странном мире, где не было Неда, Оливер пропал без вести и, возможно, погиб, Манассия уехал в Соединенные Штаты, Хорхе – в Аргентину, Феликс – в Северную Ирландию, а Маккеллар (после развода и продажи квартиры) обретался Бог знает где, но, скорее всего – в какой-нибудь ночлежке. Кого-то призвали на военную службу – как Марка и Дженни, – и распределили куда-то в провинцию. Так что я мог бы сказать, сокрушаясь, вслед за королем Артуром Томаса Мелори: «и впредь уже никогда благородному братству сиятельных рыцарей не собраться всем вместе». Сюрреализм пустился в бега, разлетелся по миру. Бретон с Танги успели уехать в Нью-Йорк, но когда немцы захватили Францию, остальные сюрреалисты оказались в концлагерях, и никто ничего не знал о судьбе Поля и Нюш Элюаров. Рожденный после Первой мировой, сюрреализм испустил дух под натиском следующей войны.
В моей квартире на Кьюбе-стрит уже давно жили другие люди, домовладелец аннулировал наш договор об аренде, когда узнал, что меня определили в дурдом, но добрая Дженни собрала мои вещи и оставила их на хранение на одном из складов «Харродза». Мне было некуда идти, и я поселился на время у Клайва и Салли. Я прожил у них пару недель, пока не нашел себе новую квартиру. В основном, я общался с Салли, потому что Клайв почти не бывал дома. Он добился поставленной цели и стал миллионером к тридцати годам, но с началом войны совершенно забросил дела и поступил в британские ВВС. На самом деле, мне кажется, что Салли была даже рада, что ее муж редко бывает дома, потому что его необузданный энтузиазм и неумеренное любопытство относительно всего на свете, вкупе с извечно восторженной увлеченностью всем и вся, действительно слегка утомляли. Он, как вихрь, врывался в дом и буквально с порога пускался в пространные рассуждения о штурвалах, закрылках, шасси и аэродинамических свойствах спитфаеров, а также о прочих своих увлечениях, скажем, «Поминках по Финнегану», о которых он мог говорить часами. Клайв очень подробно расспрашивал меня о клинике. Каково было мне ощущать себя пациентом дурдома? Какие там были врачи? Каковы мои впечатления о других пациентах? Я отвечал односложно и очень расплывчато, и Клайв, как я понимаю, был разочарован такими ответами. Но все дело в том, что я не особенно присматривался к другим пациентам клиники, поскольку мне лично они казались совершенно невыразительными и скучными по сравнению с моей прежней компанией из «Серапионовых братьев».