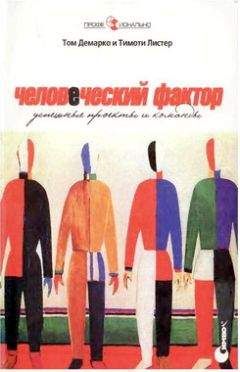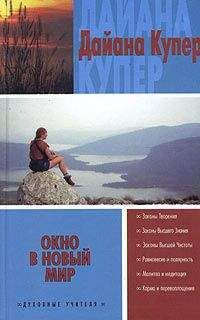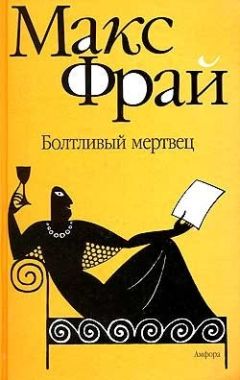* Пиранези Джованни Баттиста (1720-1778) – итальянский гравер и архитектор. Создавал «архитектурные фантазии», поражающие сверхчеловеческой грандиозностью пространственных решений и драматическими светотеневыми контрастами.
** Джон Мартин (1789-1854) – британский художник-романтик и гравёр; прославился изображением сцен катастроф. Его полотна заполнены крошечными фигурками среди грандиозных архитектурных сооружений.
На самом деле, я могу понять этих людей: мне и самом было странно стоять за мольбертом посреди горящих руин, вдыхать пронзительно-едкий дым, смешанный с запахом обугленной плоти, и как ни в чем ни бывало зарисовывать руки и головы, торчавшие из кирпичного крошева, в то время как люди вокруг суетились, пытались разгребать завалы, тащили пожарные шланги и передавали друг другу по длинной цепочке ведра с водой. С тем же успехом я мог оставаться в клинике: весь мир превратился в большой сумасшедший дом. Очень быстро все жители Лондона научились бояться безоблачных ясных ночей и полной луны – «Бомбежной луны», как ее тогда называли, – все, кроме меня. Теперь я спал днем, а в шесть часов вечера, с первой сиреной воздушной тревоги, брал мольберт и отправлялся на улицы города в предвкушении новых апокалипсических видений.
Мне нравилась моя работа. Быть может, я был прирожденным военным художником, и война была моей естественной стихией. Но что я действительно ненавидел в войне, так это навязчивое дружелюбие сограждан и кошмарное ощущение «мы все едины». Меня передергивало всякий раз, когда мне предлагали «стаканчик чего-нибудь горячительного», а если кто-нибудь в пабе предлагал «постучать по клавишам», я тут же вставал и уходил, опасаясь, что меня тоже заставят петь вместе со всеми «Беги, кролик, беги, беги» или «Ней Hitler! Ja! Ja! Ja!». В военное время многие самые обыкновенные вещи неизбежно становятся принудительно-обязательными. Я ничего не имею против того, чтобы исполнить в хорошей компании нестройным подвыпившим хором «Knees-up Mother Brown», но я не хочу, чтобы это превращалось в повинность. За те годы, что я провел в клинике, я отвык от больших шумных толп. Поначалу я даже боялся ходить в пабы – приходилось себя заставлять. И еще мне пришлось заново’ учиться пить.
Исполняя свое призвание живописца руин, я поначалу пытался держаться в гордом одиночестве, но вскоре понял, что это никак невозможно просто в силу специфики моей работы. Для того чтобы везде успевать, мне была необходима проверенная информация, каковую я мог получить только у добровольцев пожарной охраны, курьеров и сотрудников «скорой помощи». Уже по прошествии нескольких месяцев я запросто общался с бандами мародеров и нередко ходил вместе с ними к месту последней бомбежки. Мародеры не возражали. Сперва они относились ко мне настороженно, но я вел себя дружелюбно, не лез в их дела и не пытался взывать к их совести, и уже очень скоро у нас с ними установились довольно приятельские отношения – и не только с грабителями, но и с сотрудниками городской ПВО, санитарами, подрывниками, спасателями. Пока я работал, я невольно прислушивался к их разговорам. Надо сказать, что их версии событий на фронте разительно отличались от тех известий, которые передавали по радио и о которых писали в газетах.
Я слышал совсем уже невероятные вещи. Фрицы-шпионы, переодетые монашками, ведут наблюдение за нашей береговой обороной. Немцы уже предпринимали попытку напасть на нас с моря, но у них ничего не вышло. Прибой до сих пор вымывает на берег их раздувшиеся тела. Королевское семейство эвакуировалось ь Канаду, а в Букингемском дворце их заменяют актеры-двойники. В Лондоне появился оборотень-людоед, который рыщет по разбомбленным районам и нападает на людей. Говорят, что в человечьем обличие это пожарный, а кое-кто утверждает, что в Ист-Энде действует целая бригада пожарных-оборотней. Излишки мяса, которое они не съедают сами, они продают с черного хода в шикарные рестораны на Стрэнд и Пиккадилли. А один парень, бригадир поисково-спасательного отряда, рассказывал мне, что однажды разговорился на улице с девушкой-иностранкой в ярко-зеленой военной форме (он так и не понял, что это была за форма: быть может, латвийская, но он не уверен), и тут включились сирены воздушной тревоги. Они как раз вышли на Чэнсери-лейн, но вместо того, чтобы спуститься в метро, как все остальные прохожие, девушка взяла его за руку и повела за собой. Они прошли через низенькую неприметную дверь в боковой стене здания, с виду похожего на какое-то учреждение, и долго спускались по темной винтовой лестнице. И вот лестница закончилась. Они оказались в бомбоубежище, больше похожем на сказку. Мой собеседник был там единственным мужчиной среди множества женщин в зеленой военной форме какого-то непонятного, но явно союзного государства. Там стояли кровати, застеленные свежим хрустящим бельем. Еще он запомнил шампанское в ведерках со льдом и целые горы консервов. Парень, который мне это рассказывал, говорил, что провел в этом убежище лучшую ночь в своей жизни. Ночь небывалого наслаждения. Однако, хотя он старался запомнить дорогу, когда уходил, и потом возвращался в то место не раз, но так и не смог отыскать заветную дверь.
Нелепые слухи и богатый военный фольклор приводили меня в восторг, и я стал записывать эти истории в отдельную тетрадку. Потом я решил, что такое богатство нельзя держать лишь для себя, связался с Роландом Пенроузом и записался в проект «Наблюдение масс», что, в свою очередь, привело к очень значимой встрече.
Я в кои-то веки работал днем. Это было на следующий день, после того как разбомбили здание музея мадам Тюссо, и я не мог устоять перед таким искушением. Восковые фигуры в обрамлении полуразрушенных стен: наполовину расплавленные тела, перетекающие друг в друга, застывшие на середине этого жуткого преображения. Я передал эту сцену с фотографической точностью, и даже сейчас, когда я вспоминаю тот день, меня пробирает озноб. Закончив работу, я пошел на Портленд-плейс и встретил Пенроуза в офисе Би-Би-Си, который располагался тогда в гостинице «Лэнгем-Хаус». Пенроуза призвали в армию в качестве консультанта по маскировочным средствам, и он служил где-то за городом, но сейчас он был в отпуске и вернулся в Лондон, чтобы сделать передачу о современном французском искусстве. Он сказал, что мы встретились очень удачно, и он сейчас отведет меня на собрание участников «Наблюдения масс» на Сохо-сквер и познакомит с моими будущими коллегами. Разумеется, в городе действовало затемнение, но «бомбежная Луна» освещала нам путь. Когда мы собрались перейти через Оксфорд-стрит, Пе-нроуз схватил меня за руку и заставил остановиться. Сзади к нам подошла молодая женщина, участница проекта «Наблюдение масс», которая тоже спешила на собрание.
– Давайте я вас познакомлю, – сказал Пенроуз.
– А мы знакомы, – сказал я, оборачиваясь к молодой женщине в форме женской вспомогательной службы ВМС.
– Да, – сказала Моника. – Вот уж точно, мы встретились в лунном сиянии, Каспар.
Ее лицо в лунном сиянии было словно нагромождение плоскостей – такое изломанное и жесткое. А потом оно вдруг смягчилось.
– Я слышала, что с тобой было, Каспар. Мне так жаль. – Она шагнула ко мне, обняла и поцеловала в губы. По-настоящему.
Я застыл, ошеломленный.
– Поразительное совпадение! – воскликнул Пенроуз.
– Это не совпадение, на самом деле, – сказала Моника. -Для того чтобы нежданную встречу двух знакомых когда-то людей можно было назвать совпадением, эта встреча должна быть действительно невероятной. А наша встреча с Каспаром была неизбежной.
На собрании Пенроуз, Харрисон, Моника и еще несколько человек разъяснили присутствующим философские и эстетические задачи «Наблюдения масс», после чего нам раздали опросные листы и анкеты, большая часть из которых была подготовлена Министерством информации и касалась вопросов гражданской морали. Уже после собрания, в «Геркулесовых столпах», мы с Моникой выяснили, что живем совсем рядом друг с другом – в Челси. Мы вместе доехали на метро до Слоан-сквер и пошли дальше пешком. Мы разговаривали всю дорогу, и никак не могли наговориться. Тем более что разговор был серьезный.
– Я скучаю по братству, – сказала Моника. – Теперь они все словно призраки в этом городе. Я так рада, что мы с тобой встретились, хотя ты тоже немного похож на призрак. Я обратила внимание, в баре. Ты сидел такой тихий, такой печальный. Раньше ты был другим. Я хорошо помню, как ты любил говорить о разном, и обращать на себя внимание, и каждый раз приходил с новой женщиной, и тебе, кажется, было не важно, как они выглядят, и что они из себя представляют – пока не появилась та машинистка. Вы с Оливером вечно резвились и выдумывали всякие штуки. И с Маккелларом тоже.
– Кстати, а где теперь Маккеллар? – спросил я.
– Не знаю. Никто не знает.
Как я уже говорил, в последний раз я общался с Маккелларом, когда он приходил ко мне в клинику со связкой бананов, и насколько я понял теперь, с тех пор его больше никто не видел – в смысле, никто из «Серапионовых братьев». Я думал, что он придет ко мне еще не раз, но он не пришел. Если бы я знал, что так будет, я бы, наверное, вел себя по-другому. Точно так же и с Недом: я ужасно жалею, что не присмотрелся к нему повнимательнее в тот вечер в «Дохлой крысе», до того, как мы все вошли в затемненную комнату. Все когда-то бывает в последний раз, но ведь заранее не угадаешь, какой раз станет последним. Когда-нибудь я в последний раз съезжу в Париж, в последний раз посмотрю кино, съем последний завтрак, испущу свой последний вздох, но вряд ли я распознаю эти события и переживания как «последние».