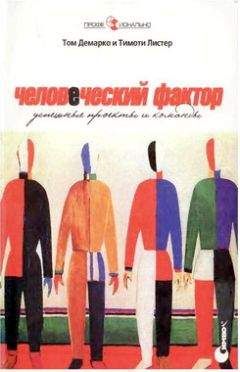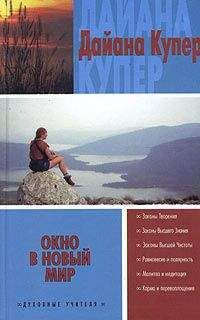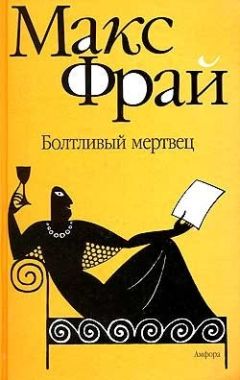– Кстати, а где теперь Маккеллар? – спросил я.
– Не знаю. Никто не знает.
Как я уже говорил, в последний раз я общался с Маккелларом, когда он приходил ко мне в клинику со связкой бананов, и насколько я понял теперь, с тех пор его больше никто не видел – в смысле, никто из «Серапионовых братьев». Я думал, что он придет ко мне еще не раз, но он не пришел. Если бы я знал, что так будет, я бы, наверное, вел себя по-другому. Точно так же и с Недом: я ужасно жалею, что не присмотрелся к нему повнимательнее в тот вечер в «Дохлой крысе», до того, как мы все вошли в затемненную комнату. Все когда-то бывает в последний раз, но ведь заранее не угадаешь, какой раз станет последним. Когда-нибудь я в последний раз съезжу в Париж, в последний раз посмотрю кино, съем последний завтрак, испущу свой последний вздох, но вряд ли я распознаю эти события и переживания как «последние».
– А что ты делаешь во вспомогательной службе ВМС? – спросил я.
– Я подумала, что цвет формы подходит к моим глазам, – сказала Моника.
– Тебе вообще очень идет эта форма, но чем ты там занимаешься?
– Ты не поверишь, но я повариха.
Монике не хотелось говорить о ВМС. Ей хотелось предаться воспоминаниям о «Серапионовых братьях».
– Теперь, когда Неда не стало, получается, что ты – лидер братства, – сказала она.
– По тому, как все обернулось, я и есть братство.
– Ну, я могу вступить снова, – Моника усмехнулась. – Только какой в этом смысл? – добавила она и принялась излагать мне свою теорию. Она считала, что предназначение «Серапионовых братьев» было пророческим. Мы стали Кассандрой среди художественных движений. Наши картины – визуализация кошмаров, расчлененных изломанных тел, дымных пространств, залитых кровью – предсказали войну. И теперь, когда мы исполнили наше предназначение, мы уже не нужны.
Когда она закончила говорить, мы как раз подошли к ее дому в переулке у Кингс-роуд.
– Я бы пригласила тебя зайти выпить кофе, но кофе нет. Если хочешь, давай выпьем просто горячей воды.
– Главное, чтобы не чаю, – ответил я. – Не люблю чай.
И я пошел к Монике, хотя уже понял, что будет дальше, и мне было страшно. Я действительно чувствовал себя призраком: бледной, пустой оболочкой, сотканной из тусклого марева ночи. Может быть, я и вправду оставил себя настоящего в больничном зеркале – с той стороны коварного стекла, навечно впечатанного в собственное отражение.
Моника достала бутылку бренди, которую хранила для особенных случаев. Мы сидели друг против друга. На стене за спиной у Моники висела огромная схема, нарисованная от руки и вся исчерканная разноцветными стрелками, которые сплетались в замысловатую сеть. Издали ее можно было принять за карту с планом боевых действий, где были размечены замысловатые передвижения танков, пехоты и артиллерии. Это была знаменитая Схема случайностей и совпадений, над которой Моника работала много лет, графическая раскладка явных и скрытых взаимосвязей между людьми через личные и опосредованные знакомства, обозначенные пересечением линий разных цветов и пунктиров, с акцентом на подлинные совпадения, выделенные красными звездочками. Например, за несколько лет до учреждения «Серапионовых братьев» Оливер с Недом встречались в Гайд-Парке, где оба работали летом в прокате шезлонгов. В то время ни тот, ни другой совершенно не интересовались сюрреализмом. Или вот еще странное совпадение: Моника с Феликс учились в одной частной школе и посещали одни и те же уроки латыни, а потом снова встретились уже на собрании братства. В центре этой карты случайностей, управляющей жизнью людей, Моника поместила Неда.
В тот вечер она говорила о нем постоянно. Разумеется, она с ним спала. Я думаю, что этого не избежала ни одна женщина в братстве. Моника вспоминала об их романе совершенно спокойно: без сожаления, без злости, без теплоты.
– Он относился ко мне, как к ребенку – или как будто я кукла, которая закрывает глаза, если ее положить на спину, и открывает глаза, если ее посадить. От нас не требовалось что-то делать. Я, Дженни, Феликс, Джейн, Памела и все остальные – мы должны были просто быть. Если кто-то из нас рисовал картину или сочинял более-менее удачное стихотворение, это было неплохо, да… вроде как неожиданный подарок… но для вас, «Серапионовых братьев», женщины, прежде всего, были музами, и именно этого от нас и ждали. Мы с Дженни часто задумывались о том, чтобы вообще отделиться и организовать что-то вроде «Серапионовых сестер», только для женщин. А потом, когда ты загипнотизировал меня в клубе… это стало последней каплей. Я на тебя не сержусь. И тогда не сердилась. Я ушла вовсе не из-за тебя… На самом деле, гипноз -это так интересно.
Она задумалась, подбирая слова. Потом пожала плечами, встала, обошла стол и присела на подлокотник моего кресла. Она казалась такой привлекательной и сексуальной в своей строгой форме. Безусловно, я это отметил. Но исключительно в абстрактном смысле. Она смотрела на меня сверху вниз, смотрела мне прямо в глаза.
– Загипнотизируй меня, дурачок.
– Моника, я не могу. Я уже ничего не могу.
– Тогда просто поцелуй меня.
– Все равно ничего не получится, Моника. Ты говорила, что я немного похож на призрака. Я и есть призрак. Почти бесплотный. То, что ты видишь, это не тело, а только подобие тела. Я уже не возбуждаюсь на женщин и не могу заниматься сексом.
Она опустилась передо мной на колени и принялась расстегивать пуговицы у меня на ширинке. – Сейчас проверим.
Она возбуждала меня обеими руками, полная решимости доказать, что я ошибаюсь, но поначалу все было так, как я и предвидел. Так что Моника оставила бесплотные попытки и резко поднялась на ноги. Глядя прямо перед собой, она начала раздеваться – очень медленно, словно во сне. Как будто и вправду под гипнотическим принуждением. Моника с ее широким славянским лицом, пышнотелая, с крутыми тяжелыми бедрами, была совсем не похожа на Кэролайн, и все же я вдруг с изумлением осознал, что она возбуждает во мне влечение. Разум все еще твердил, что это влечение – исключительно эстетическое, и в нем нет ничего эротического, но в глубине подсознания я был уверен, что разум – не лучший советчик в подобный вещах. Когда Моника закончила раздеваться, она опять посмотрела мне прямо в глаза, а потом опустила взгляд ниже, чтобы проверить, есть ли там хоть какой-то отклик. И отклик действительно был – не сказать, чтобы в полную силу, но все же. Издав тихий стон, словно ей было в тягость то, что она сейчас делала, Моника рухнула на колени, зарылась лицом у меня между ног и принялась целовать и облизывать мой слегка оживившийся член. А уже через пару минут мы с ней катались по полу, и Моника пыталась подмять меня под себя и занять позицию сверху. Я уже думал, что мне не справиться с этим бешеным натиском, но в итоге мне все-таки удалось восстановить исконно мужское главенство.
Я съехал со съемной квартиры и поселился у Моники. Как оказалось, она действительно служила в ВМС, только не поварихой. Про повариху она придумала, чтобы ее не донимали расспросами. В конце концов, Моника призналась, что работает в военно-морской разведке, но не стала вдаваться в подробности. «Меньше болтаешь – дольше живешь». Поскольку она ничего не рассказывала, я пускался в безумные фантазии, представляя себе, чем она занимается целыми днями. Наверняка у нее была очень опасная и интересная жизнь, насыщенная волнующими событиями: тайные встречи; подводные лодки, всплывающие на поверхность в районе «Собачьего острова»; злодеи с ярко выраженным иностранным акцентом, которых она, разумеется, убивает, а потом избавляется от тел, растворяя их в ванне, наполненной кислотой; вражеский цеппелин, спрятанный в лесу в Эппинг-Форест; нацистский шпион в штабе Адмиралтейства, разоблаченный, опять же, бесстрашной Моникой. С тем же успехом я мог бы придумывать занятия и для себя – именно что для себя, поскольку Моника совершенно не интересовалась моей работой.
Я познакомил ее с Клайвом и Салли, но их отношения не задались сразу: когда Моника сказала, что служит в женской вспомогательной службе ВМС на должности поварихи, у Клайва тут же загорелись глаза, и он принялся расспрашивать ее о наиболее экономичных меню и кухонной гигиене, и весь вечер категорически не желал говорить ни о чем другом. Мы достаточно часто встречались с Роландом Пенроузом и его тогдашней возлюбленной, американкой Ли Миллер, которая в свое время работала у Мэна Рея, в его парижском ателье, и была его близкой подругой. Потом Ли переехала в Лондон к Пенроузу, и сейчас в качестве военного фотокорреспондента снимала разбомбленный город. Она показала мне свою коллекцию снимков (в скобках замечу, весьма впечатляющих), и у нас с ней, безусловно, нашлась общая тема о художественном видении руин. Ли продемонстрировала Монике золотые наручники, которые ей подарил Роланд. Буквально на следующий день Моника тоже купила себе наручники, только, естественно, не золотые, поскольку у нас не было таких денег. По ночам мы с ней разыгрывали в постели маленькие спектакли, которые, наверное, можно было бы назвать смягченными вариациями Театра жестокости. Я был ее повелителем и господином, а она – покорной рабыней, прикованной к кровати для удовольствия сурового хозяина. Честно сказать, мне не нравились эти игры, и я сам никогда бы не стал затевать что-то подобное, но Монике хотелось, чтобы ее подчиняли и унижали, и я пассивно играл свою роль своевольного и властного сластолюбца, которую мне так упорно навязывали. Иногда мне казалось, что ее привлекают во мне только способности к гипнозу, продемонстрированные в тот давний вечер в «Дохлой крысе», когда я подчинил ее своей воле.