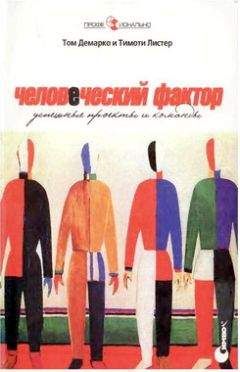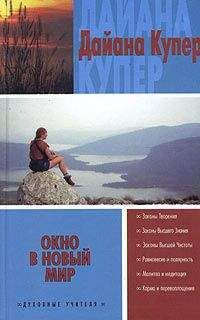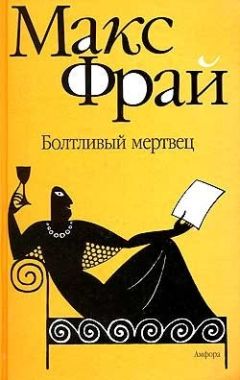Последний массированный воздушный налет на Лондон случился в мае 1941-го года (хотя во время налета мы, разумеется, не знали, что он последний). Бомбежки закончились, но немецкие снаряды все же пробили немалые дыры в моих воспоминаниях. Здание клуба «Дохлая крыса», где в начале войны разместился рекреационный центр для французских беженцев, было разрушено; как и контора Англо-Балканской меховой компании в Сохо; как и мой прежний дом на Кьюбе-стрит. По окончании блица я перестал работать по ночам и писал теперь при свете дня, и хотя мои развалины еще не покрылись «налетом замшелых веков» и «истинной ржавчиной Баронской войны», они все же утратили свою трагическую сиюминутность. Среди разрушенных зданий уже пророс иван-чай, и птицы устроили гнезда на обломках кирпичных стен. Теперь некоторые районы Лондона напоминали мне заколдованный спящий дворец, заросший шиповником. И еще я писал Монику в разных видах: Моника спящая, Моника в образе Титании, Моника – сексуальная рабыня.
Наш роман продолжался еще два года. Я думаю, что мы так долго пробыли вместе, потому что почти не бывали вместе. Мы оба работали, причем наши графики часто не совпадали, и нередко случалось, что Моника уезжала на несколько дней по каким-то загадочным делам. Все, с кем мы были близки до войны, растерялись. Мы с Моникой остались вдвоем: осиротевшие дети, последние «Серапионовы братья», нашедшие утешение друг в друге. Но вот однажды Моника вернулась домой, вся возбужденная и радостная, и сунула мне в руки книжку. «Вампир сюрреализма» Оливера Зорга. (Если бы не Моника, я бы, наверное, еще очень не скоро узнал, что он вышел – я давно перестал заходить в книжные магазины.)
Я ужасно обрадовался. Значит, Оливер все-таки жив! Однако меня огорчило, что в книге не было никаких указаний на то, где сейчас может быть ее автор. На суперобложке был только список его предыдущих работ. Мы с Моникой читали книгу по очереди, лежа в постели. Когда в повествовании впервые появилась Стелла, я погладил Монику по пышной попе и улыбнулся про себя, вспомнив, что Оливер списал роскошную задницу своей героини со столь же роскошной седалищной части Моники.
Что касается романа в целом, он был в значительной мере менее экспериментальным, чем его ранние работы (и в скобках добавлю, чем его книги, которые выйдут впоследствии). Также было вполне очевидно, что, несмотря на полет готической фантазии, сумрачно-романтический антураж и обилие эктоплазмы и прочих эзотерических декораций, история была глубоко автобиографичной. Оливер (в книге он именует себя Робертом) нарушает строжайший запрет и вызывает в нашу реальность вампиршу из Ада, роковую красавицу Стеллу, безмерно прекрасного, но злобного духа, и они каждую ночь предаются греховной любви на алом диване. Вскоре Роберт понимает, что она пьет из него энергию, и что ему надо спасаться – бросить все и бежать, пока он еще может. Он едет в Испанию, где записывается в Интернациональную бригаду и отправляется защищать Мадрид. Он геройски сражается, ходит буквально на волосок от смерти, и все равно его мысли заняты только Стеллой. На самом деле, чем ближе к нему подступает смерть, тем больше он думает о своей потусторонней возлюбленной. В конце концов, Роберт приходит к выводу, что от мыслей о Стелле его может избавить лишь смерть. Он первым бросается в атаку, он бездумно рискует собой, вызывается идти добровольцем на самые опасные задания. Он сам ищет смерти. И вот, в одном из боев, он получает тяжелое ранение, и его, полуживого, привозят в мадридский госпиталь (расположенный в сумрачном здании древнего монастыря). Роберт уверен, что ему не выжить, и впервые за многие месяцы его душа обретает покой. Книга заканчивается на том, что он лежит у себя в палате, а молоденькая медсестра, отвернувшись к окну, набирает в шприц обезболивающий препарат. Она стоит спиной к Роберту, и он не видит ее лица. Зато его видит читатель. У медсестры лицо Стеллы.
«Вампир сюрреализма» открывается эпиграфом из Бодлера: «Любить умную женщину – удовольствие для педерастов». Книга Оливера, как и следовало ожидать, насквозь проникнута духом женоненавистничества. Автор вполне однозначно дает понять, что все женщины – вампиры. Весь роман – это одна большая аллегория страха мужчины перед женщиной, его извечным врагом. Любить женщину – для мужчины это означает отказаться от своей мужской сущности, что равносильно смерти. Как ни странно, «Вампир сюрреализма» вышел в солидном и довольно консервативном издательстве «Barrington and Lane». На следующий день я помчался в издательство, хотя заранее знал, что лишь зря проезжу туда-сюда. И действительно, на месте здания редакции на Патерностер-Роу зияла обугленная воронка.
Коллекция Моники – ее знаменитые карточки с записями разговоров друзей и знакомых, – оказалась еще интереснее, чем роман Оливера. Моника не хотела, чтобы я рылся в ее картотеке, но я так долго и нудно по этому поводу сокрушался, что, в конце концов, ей надоело выслушивать мои стенания, и она допустила меня к своему архиву. Я изучал его несколько месяцев, и это было действительно увлекательно, и я, безусловно, узнал кое-что интересное, хотя и затрудняюсь сказать, что именно. Во всяком случае, теперь я узнал, что Моника вступила в «Серапионово братство» после «случайного знакомства» с Недом. Собственно, после этого она и занялась изучением природы случайности, пытаясь понять смысл этой встречи (и вообще любой непредвиденной встречи, которая так или иначе меняет течение человеческой жизни). Для чего состоялась их встреча? Что должно было произойти, чтобы встреча случилась? Что привело их обоих в определенное место в определенный момент времени? Что с ними было потом, чего не могло бы произойти, если бы они не встретились? В какой мере это событие стало определяющим в их судьбе, и что именно оно определило? Моника очень подробно записывала свои мысли и приводила цитаты из Паскаля, Ферма, Фрейда и Юнга. Впрочем, я так и не понял, что из всего этого следует, и постигла ли Моника тайную суть объективной случайности.
Как мы там ни было, знакомство с Недом оказало большое влияние на Монику. Нед рассуждал о конвульсивной страсти, поисках Чудесного, исконном матриархате и прочих вещах, грандиозных, заманчивых и нетривиальных. Моника была зачарована гипнотической силой его рассуждений – я намеренно использую эту метафору. Она не столько подпала под его обаяние, сколько намеренно бросилась в омут его чарующей личности. Она решила, что станет Босуэллом для Джонсона Неда*. Она старалась не пропускать ни одного собрания «Серапионовых братьев», внимательно слушала Неда, запоминала его слова, а потом, уже дома, аккуратно записывала все услышанное. Она стала любовницей Неда: приняла эстафету у Дженни Бодкин и продержалась три месяца, пока ее не сменила Феликс. Мне попалась одна дивная запись, сделанная в один из самых последних дней, когда Нед и Моника еще были вместе. Они стояли в очереди в рыбной лавке, и Нед говорил – бла, бла, бла – об основном предназначении женщины, которая должна вдохновлять художника и быть его музой, и тут Моника психанула.
* Аллюзия на книгу Джеймса Босуэлла (1740-1795) «Жизнь Саму-эля Джонсона», посвященную выдающемуся английскому литератору, лексикографу и издателю Сэмюэлю Джонсону (1709-1784). Книга написана в жанре биографии: это своеобразная энциклопедия интеллектуальной жизни Англии XVII века. Герои книги, именитые современники Джонсона и Босуэлла, спорят и рассуждают о самых разных вещах: о свободе слова и страхе смерти, об учениях древних философов, о супружеской неверности и театре, о пользе изучения иностранных языков и государственной пенсии и т.д.
– Какая муза?! Какая женщина?! – Она указала на пожилую леди в очереди перед ними. – Вот тебе женщина, тучная тетка в кошмарных очках. Она, по-твоему, тоже муза?!
Женщина рассерженно обернулась. Нед задумчиво прищурился, глядя на нее в упор, как будто и вправду пытался решить для себя, насколько она подходит на роль вдохновляющей музы.
Моника продолжала:
– Мне надоело быть твоей музой. Возьми себе в музы кого-то другого. Например, эту старую вешалку. Или вон ту, впереди.
– Девушка, ты выбирай выражения, – возмутилась «старая вешалка» и схватила Неда за лацканы пиджака. – А вам, молодой человек, должно быть стыдно за вашу подругу. На вашем месте я бы ей задала хорошую порку.
Хозяин лавки попросил Неда с Моникой покинуть помещение и сказал, что здесь их не будут обслуживать никогда.
Под конец их романа, когда Моника перестала зацикливаться на Неде, круг ее интересов стал значительно шире, и поскольку она уже знала весь репертуар Неловых интеллектуальных приемов, она сделала вывод, что ее собственные идеи не менее увлекательны и интересны, и начала аккуратно записывать все, о чем говорили «Серапионовы братья» и вообще все друзья, и знакомые, и знакомые знакомых. Разбирая ее картотеку, я сам удивлялся тому, как я много и часто «вещал о разном», причем, все, что я говорил, воспринималось довольно серьезно другими членами нашей группы (но только не Моникой, как оказалось). Разумеется, я изучал эти записи вовсе не для того, чтобы побольше узнать о Монике, Неде и братстве в целом. Да, я открыл для себя много нового, но все это шло в дополнение к главному. А главной, конечно, была Кэролайн. В картотеке у Моники был целый раздел, посвященный Кэролайн, хотя они виделись считанные разы: в «Gamages», в кинотеатре, в галерее Нью-Барлингтон и в тот день, когда мы ездили в Брайтон. (Кстати, записи Моники очень мне помогли при создании этих анти-мемуаров; я не раз обращался к ее картотеке, чтобы освежить в памяти некоторые эпизоды.)