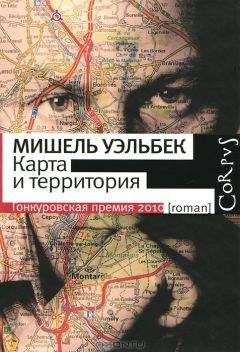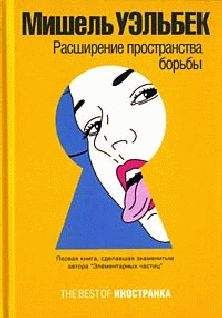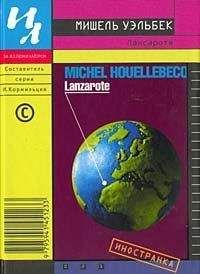Распечатка телефонных разговоров жертвы за год, согласно закону хранящаяся у оператора, ничего не дала. В этот период времени Уэльбек почти никому не звонил; на все про все девяносто три звонка; и ни один из них, судя по всему, не носил личного характера.
Похороны назначили на следующий понедельник. На этот счет писатель оставил самые точные распоряжения, заверив их у нотариуса и приложив сумму, необходимую на их исполнение. Он просил, чтобы его не кремировали, а предали тело земле по классическому образцу. «Мне хочется, чтобы черви очистили мой скелет, – уточнял он, позволив себе личное замечание на более чем официальном бланке. – У нас с моим скелетом всегда были прекрасные отношения, и я счастлив, что он сможет наконец освободиться от уз плоти». Он желал быть похороненным только на монпарнасском кладбище и заблаговременно приобрел там место на тридцать лет, ничем не примечательное, оказавшееся по чистой случайности вблизи от могилы Эмманюэля Бова*.
* Эмманюэль Бов (настоящая фамилия – Бобовников; 1898-1945) – французский писатель.
Жаслен и Фербер отлично смотрелись на похоронах. От природы бледнолицему тощему Ферберу, носившему, как правило, одежду темных тонов, ничего не стоило изобразить подобающие в данных обстоятельствах скорбь и чинность; что касается Жаслена, то его измученный и смиренный вид человека, знающего жизнь и не строящего иллюзий по ее поводу, тоже пришелся весьма кстати. Они, впрочем, уже присутствовали вместе на многих похоронах, иногда жертв преступления, но в основном коллег. Некоторые из них кончали с собой, другие погибали при исполнении, и тогда церемония была чрезвычайно зрелищной: обычно их представляли к награде, которую с важным видом прицепляли к гробу в присутствии официального лица высокого ранга, чаще всего министра, и погибшим воздавались государственные почести.
Они встретились в десять утра в комиссариате VI округа; в приемных залах мэрии* по такому случаю распахнули окна, отсюда открывался замечательный вид на площадь Сен-Сюльпис. Оказывается, автор «Элементарных частиц», всю жизнь щеголявший своим непримиримым атеизмом, потихоньку крестился в церкви Куртене за полгода до смерти. Эта новость, встреченная всеобщим удивлением, вывела церковные власти из затруднительного положения: по вполне очевидным соображениям медиатического характера, им не хочется оставаться в стороне от похорон знаменитостей, но ввиду победного наступления атеизма, устойчивой тенденции к снижению показателя крестин – в том числе просто для порядка, – а также их собственной пресловутой консервативности, к их глубокому сожалению, все чаще и чаще именно так и происходит.
* В этом округе Парижа мэрия и комиссариат находятся в одном здании.
Кардинал и архиепископ Парижский, введенный в курс дела по электронной почте, с радостью дал свое согласие на мессу, которая должна была состояться в 11 часов. Он лично принял участие в составлении проповеди, особенно подчеркнув в ней утверждение писателем общечеловеческих ценностей, и лишь вскользь упомянул, выйдя на коду, о его тайном крещении в церкви Куртене. Все вместе, с причастием и прочими каноническими ритуалами, займет максимум час; так что ближе к полудню Уэльбека проводят в последний путь.
По этому поводу, как сообщил ему Фербер, писатель тоже оставил точные распоряжения, вплоть до того, что нарисовал свое надгробие: обыкновенную черную базальтовую плиту, лежащую на земле; он настаивал на том, что ее ни при каких условиях нельзя приподнимать даже на несколько сантиметров. На плите была написана его фамилия, без дат и каких-либо иных указаний, и выбита лента Мебиуса. Уэльбек заказал плиту при жизни у парижского мраморщика и лично следил за ее изготовлением.
– Ну ясно,- заметил Жаслен, – он себя, любимого, за говно не держал…
– И правильно, – мягко ответил Фербер. – Знаешь, он ведь был совсем неплохим писателем…
Жаслену тут же стало стыдно за свое замечание, не имевшее под собой никаких оснований. Уэльбек просил для себя ничуть не больше, а то и меньше, чем имел обыкновение требовать любой именитый горожанин XIX века или дворянчик прошлых столетий. Вообще-то, если задуматься, он и сам не был поклонником современных упрощенных традиций, следуя которым люди завещали кремировать себя, а пепел развеять на лоне природы, словно для того, чтобы подчеркнуть возврат к ее истокам и воссоединение со стихией. Даже тело своего песика, умершего пять лет назад, Жаслен предал земле (положив рядом с ним в момент погребения его любимую игрушку) и воздвиг ему скромный памятник в саду родительского дома в Бретани, где в прошлом году умер и его отец, дом же он решил не продавать в надежде, что, выйдя на пенсию, они с Элен там поселятся. Человек не является составной частью природы, он поднялся выше природы, и собака с тех пор, как ее одомашнили, тоже стала выше ее – вот что думал он в глубине души. И чем серьезнее он размышлял над этим, тем более безбожным – пусть даже в Бога он не верил, – тем более в каком-то смысле антропологически безбожным представлялся ему обычай развеивать человеческий прах над лугами, реками и морями либо, по примеру этого фигляра Алена Гийо-Петре*, который, по мнению современников, якобы омолодил телевизионный прогноз погоды, аж в глазу циклона. Человеческое существо – это сознание, уникальное, индивидуальное и незаменимое, и по этой причине оно заслуживает памятника, стелы, на худой конец – поминальной надписи, ну хоть чего-нибудь, что увековечило бы факт его существования, – вот что считал он в глубине души.
* Ален Гийо-Петре (1950-1999) – французский журналист, ведущий прогноз погоды на телевидении, охотник за циклонами и ураганами.
– Идут, – тихо сказал Фербер, выведя его из задумчивости. И правда, хотя было всего пол-одиннадцатого, человек тридцать уже собрались у входа в церковь. Кто такие, интересно? Неизвестные, возможно – читатели Уэльбека. Бывает, что убийца, особенно если преступление совершено из мести, появляется на похоронах своей жертвы. В сложившейся ситуации Жаслен в это не очень верил, но все-таки вызвал двух фотографов из криминалистической экспертизы, которые, вооружившись фотоаппаратами и телеобъективами, устроились в квартире на улице Фруадево, откуда открывался замечательный вид на монпарнасское кладбище.
Через десять минут он увидел идущих пешком Терезу Кремизи и Фредерика Бегбедера. Они заметили друг друга, расцеловались. Вид у обоих, отметил он, вполне соответствует ситуации. Издательнице с восточной внешностью отлично подошла бы роль плакальщицы, их еще совсем недавно нанимали на похороны в странах средиземноморского бассейна; а Бегбедера, казалось, обуревали самые мрачные мысли. Дело в том, что автору «Французского романа» шел тогда всего пятьдесят второй год, и он, может быть, впервые присутствовал на похоронах человека своего поколения; должно быть, говорил себе, что лиха беда начало и что телефонные беседы с друзьями нередко начинаются теперь не с привычного «Что ты делаешь вечером?», а скорее с «Угадай, кто сегодня умер»…
Жаслен и Фербер вышли из мэрии и незаметно смешались с толпой. Собралось уже человек пятьдесят. Без пяти одиннадцать перед церковью притормозил катафалк – обычный черный фургончик муниципальной ритуальной службы. В тот момент, когда ее работники вынимали гроб, ропот ужаса и потрясения пробежал по толпе. Эксперты-криминалисты, взяв на себя леденящую душу задачу по сбору разбросанных на месте преступления ошметков плоти, сложили их в пластиковые мешки, герметично запечатали и отправили в Париж вместе с уцелевшей головой. К концу исследований от всего этого осталась компактная кучка плоти, гораздо меньшего объема, чем рядовой труп, так что сотрудники ритуальной службы сочли целесообразным использовать детский гробик длиной метр двадцать. В принципе, такой рациональный подход заслуживал всяческих похвал, но зрелище гробика, вынесенного на паперть, произвело на собравшихся жуткое впечатление. Жаслен услышал, как Фербер подавляет болезненную икоту; даже у него, при всей его зачерствелости, сжалось сердце; тут и там слышались всхлипы.
Во время самой службы он, как всегда, затосковал. Жаслен окончательно утратил связь с католической верой в возрасте десяти лет и, несмотря на то что ему пришлось бывать на многочисленных похоронах, так никогда к ней и не вернулся. Он просто-напросто ничего в этом не понимал и сейчас не мог вникнуть даже в проповедь; священник поминал Иерусалим, что показалось ему некоторым отступлением от темы, но скорее всего, подумал он, в этом есть какой-то символический смысл. Впрочем, он поймал себя на мысли, что сам ритуал представляется ему вполне уместным, а обещание жизни за гробом можно, само собой, только приветствовать. Присутствие Церкви на похоронах гораздо закономернее, чем на рождениях или свадьбах. Тут она в своей стихии, ей есть что сказать о смерти, а вот о любви – это еще вопрос.