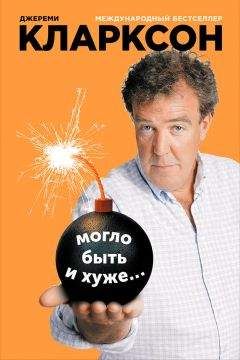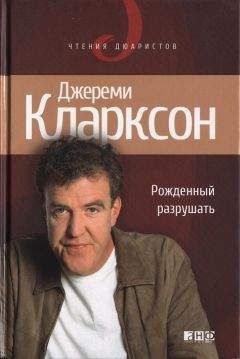Триптих «Сад земных наслаждений» был создан в 1500–1510 годах для одной из многочисленных католических сект. Босху хорошо заплатили, но поместить результат его работы в церкви никто не решился. Он дошёл до нас в отличном состоянии.
Это страшная картина. Правда, в левой части триптиха всё ещё не так плохо. Это рай. Точнее, последние три дня сотворения мира. В центре створки — искушение Адама Евой. И Бог в облике Христа — молодой, прекрасный.
Джереми Л. Смит идёт по музею Прадо довольно быстро. Его не слишком-то интересуют картины. Живопись никогда не привлекала его. Но вдруг он останавливается. Он смотрит на левую створку «Сада земных наслаждений», разглядывает лицо Христа, прекрасную златовласую Еву, удивительных тварей земных, пьющего воду носорога и раздираемых лягушками птиц. Потом Джереми переводит взгляд на центральную часть триптиха.
Это собственно сад. Обнажённые мужчины и женщины предаются жутким, гротескным удовольствиям. Они совокупляются с рыбами, птицами и русалками. Они совокупляются, стоя на головах и сидя на лошадях, обвивают друг друга странными отростками и псевдоподиями, сливаются в единое целое, предаваясь всевозможным человеческим страстям. Беспечное веселье мира, растлённого любострастием, предстаёт здесь во всей красе.
Но потом настаёт черёд правой створки. Это ад. Так называемый «музыкальный ад». Человек, целующийся со свиньёй. Люди, распятые в метрономах, распластанные на арфах, расчленённые, пробитые ножами и иглами. Это один из вариантов босховского ада, подобный триптиху «Страшный суд» — и не менее страшный.
Но суть не в этом. Джереми смотрит не на жуткие мучения и не на отвратительные наслаждения. Это вторично. Он разглядывает лица людей. Он вспоминает виденную когда-то картину, изображавшую слепцов. Это был не Босх, а Пигер Брейгель-старший. Омерзительные рожи слепых, их грязная одежда, их мерзкие позы. Босх — это квинтэссенция ужаса. Джереми смотрит на сад наслаждений и понимает что-то важное. Но об этом я расскажу вам позже.
Церковь заказывала Босху картины и росписи. Но чаще всего она отказывалась забирать его работы. Слишком уж вызывающими они были, слишком отвратительными. Теперь мы смотрим на его картины и видим в них шедевры. В конце XV века в них видели безумие.
Джереми Л. Смит не может забыть Иеронима ван Акена. «Есть ли его работы в Риме?» — спрашивает он. Но в Риме нет его работ. Картины Босха можно увидеть в Мадриде, Венеции, Париже, Вашингтоне, Берлине, Лондоне, Роттердаме, Ренте, Брюсселе, Франкфурте, Вене, Филадельфии. Но в Риме — нет. Потому что Рим недостоин Босха.
Джереми знает, что стоит ему сказать лишь слово — и все картины Босха тут же перевезут к нему в апартаменты и разместят на стенах. Он знает, что может позволить себе тушить о них сигареты, и никто ему ничего не скажет. Ни слова. Но Джереми не поступит так, потому что Босх смотрит на него сверху — этот странный уродливый человек из маленького голландского городка Хертогенбоса.
Джереми бросает последний взгляд на «Сад земных наслаждений» и идёт дальше. Босх. Иероним ван Акен Босх смотрит на Джереми Л. Смита.
* * *
В день возвращения Джереми Л. Смита из России кардинал Спирокки первым делом идёт к Карло Баньелли. Он распахивает двери его апартаментов, отталкивает прислужника и застаёт Папу одевающимся после ванны. Слуга, накидывающий на Папу халат, смотрит удивлённо. «Пошёл вон», — говорит кардинал. Слуга тут же исчезает. Спирокки смотрит на неуклюжие движения Баньелли. Тот завязывает пояс халата и вопросительно смотрит на своего гостя.
«Время пришло», — говорит Спирокки. И Бенедикт XX сразу всё понимает. Он проходит мимо кардинала в комнату и садится на обитый бархатом диван.
«Когда?»
Сложно воплощать в жизнь подобные замыслы, когда все против тебя. Но организовать такое дело «изнутри» — легко. В любой день, в любой момент, при каких угодно обстоятельствах. Примерно так же, как с Джоном Фицджеральдом Кеннеди или Индирой Ганди. В нужный момент охрана не смотрит на своего подопечного, своевременно поднимается бронированное стекло, вовремя глохнет машина. Все действия скоординированы и отлажены. Всё отрепетировано.
«Уна беременна, — сообщает Спирокки. — Нужно подождать, когда об этом будет знать не только Джереми, но и ультразвуковой аппарат. Когда мы будем уверены, что ребёнок развивается нормально, мы поставим точку».
«Беременна… — протягивает Папа. — Ты уверен, что это хорошо?»
«Это прекрасно. У нас будет новый Джереми. Только воспитаем его мы».
Баньелли понимает, что Спирокки прав. Но что-то внутри него мешает ему немедленно согласиться с этим планом. Что-то шевелится в нём. Совесть, которую необходимо придушить.
Баньелли встаёт и направляется к буфету.
«Ты не чувствуешь себя Иудой, Лючио?» — спрашивает он.
Бенедикт XX боится войти в историю под прозвищем Предатель. Или Проклятый. Или каким-нибудь в этом роде.
«Мы — Иуды, Карло». Спирокки озвучивает то, что вертится у Папы на языке. «Мы должны были стать Иудами. Это было понятно ещё с того момента, как Джереми поднял тебя из гроба».
«Он поднял меня из гроба, а я должен предать его? Вот что меня пугает».
«Ты понимаешь, что другого пути нет. Или Джереми, или Церковь. Он разрушает систему, создававшуюся веками».
Баньелли держит в руке бокал с красным вином. Второй он подаёт кардиналу. Тот возвращается на диван и устремляет свой взгляд в пустоту.
«Карло, что ты видел там?»
Это вопрос, которого Баньелли ждал все эти годы. Что он там видел. Его спрашивали об этом, но не те люди, которым он готов был ответить. Он поворачивается к Спирокки и прикрывает глаза. Один из немногих, кто побывал за гранью и вернулся. Точно знающий, что находится за этой гранью.
«Ты хочешь это узнать?»
Он смотрит на Спирокки в упор, глаза в глаза, и кардинал отводит взгляд. Он не знает, хочет ли. Это слишком сложный вопрос. Неправильный вопрос. Но Спирокки сильнее собственного страха. Страха перед ответом, который он ожидает услышать.
«Да, — отвечает он. — Я хочу это знать».
Точка невозврата пройдена.
«Там нет ничего».
Спирокки смотрит на Баньелли. В его глазах вопрос.
«Там нет ничего, Лючио. Никакого белого коридора. Никаких родных и близких, встречающих тебя в раю. Никакого рая. Никакого ада. Там пусто и темно. Это беспамятство, вечный сон, Лючио. Мы верим в пустоту».
Спирокки встаёт и проходится по комнате. Потом оборачивается.
«Нет. Мы верим не в пустоту».
Я не смогу рассказать вам, что чувствует кардинал. Не смогу передать это его словами. Поэтому попробую объяснить так, как умею. Так, чтобы вы поняли.
Церковь — это здание. Очень красивое, чаще всего. Нотр-Дам де Пари — это шедевр. Кёльнский собор — это шедевр. Храм Христа Спасителя в Москве — это шедевр. Казанский собор — тоже шедевр. Массивные, давящие стены, гигантские колонны, великолепные росписи и скульптуры. Витиеватые химеры, красные кирпичи, разноцветные купола. Храм Василия Блаженного шедеврален. Если бы не Церковь, не было бы архитектуры. Великолепные идеи гениальных зодчих прошлого никогда бы не реализовались.
Выше прочих — Саграда Фамилия. Это не просто шедевр. Идею этого храма Гауди подсказал сам Бог, потому что человек не способен измыслить такое. Человек не может продумать каждый камень, каждый кирпич — витиевато изукрашенный, наполненный демонами и химерами, языческими символами, переплетающимися с христианской мифологией. Творение Гауди, этого безумца, не должно было быть закончено. У него ведь не было чертежей. У него были только эскизы — великолепные, гениальные. В 1926 году оборванный старик попал под первый барселонский трамвай. Краны остались стоять над Саградой. Через много лет после этого собор решили достроить. Чёрт возьми, что они наделали? Этот уродливый, систематически правильный модерн и рядом не стоит с неоготическим великолепием Гауди. Бог умер в этой новостройке. Только четыре солнечных креста на вершинах Саграды по-прежнему кланяются солнцу.
Любая церковь внушает уважение. В ней ощущается какое-то величие. Мощь, сила. Люди кланяются ей — искусственно, неискренне. Крестятся, плачутся писаным образам, что-то шепчут про себя. Это напоминает языческий культ.
Отец с ребёнком идут по улице мимо церкви. Отец поворачивается к этой белой громадине и кланяется, целует нательный крестик, трижды крестится. И сына прижимает рукой к земле. Это культ, какое-то болезненное отношение. А ведь Богу достаточно самой твоей веры. Ему известно, что ты веришь в него. Он знает об этом: ты же сам всем доказываешь, что он всеведущ. Он чувствует это, даже когда ты просто идёшь по улице. Когда просто смотришь кино. Когда ешь свои чипсы. Когда занимаешься сексом. Ты дитя его — зачем ему унижать тебя, ставить на колени, складывать твои ладони? Будь собой.