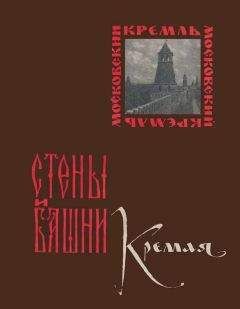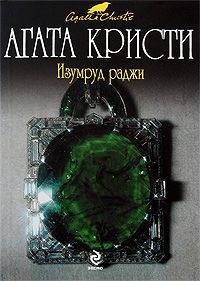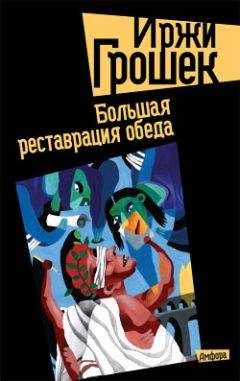На себя он смотрел, как на помазанника Божьего, жизнь которого была священна. В бояр он уже не верил и стал искать новых людей, на которых мог бы положиться. Эти люди не должны были быть связаны ни родством, ни знатностью; из нищеты и бесславия хотел он вытащить людей, которые могли бы затмить личными заслугами знатнейших бояр; они должны были отдать ему жизнь; они должны были отречься от рода и племени; если бы понадобилось царю, без раздумья отдать жизнь отца, матери, жены, детей, отречься от всего, чем до сих пор жили, отдаться всецело царю, так как царь в счастье своем видел счастье всего государства. Эта царская охрана стала называться опричниной, а в знак того, что ее обязанностью было выметать крамолу с Русской земли, опричники носили у седла метлы и собачьи головы, как доказательство того, что они загрызут всякого, кто посягнет на спокойствие царя.
Вся Русь разделилась на две половины: тысячная дружина царя, отдельный двор, собственность царя — опричнина; все государство под управлением бояр — земщина. Появилось у трона множество новых дворян, записывавшихся в опричники, — это была по большей части ватага удалых бесшабашных молодцов, распущенных, без всяких правил чести, которых увлекала беспечная, богатая жизнь при дворе. Им щедро давали отнятые у земских поместья, переводя земских из центральной России на окраины. Опричники богатели, а земские разорялись.
Немногие из людей, принадлежащих к старинным русским родам, шли ко двору и записывались в опричники; к числу этих немногих принадлежал князь Афанасий Вяземский, разгульный молодой человек, честолюбивый и жадный до денег.
С переходом в опричнину между Вяземским и Лыковым сама собою порвалась старая дружба.
— Нынче перед государем все равны, — говорил Вяземский, с вызовом глядя на князя Ивана, — а ты, князь, видно, запамятовал.
— Мне-то ведомо, князь Афанасий, — проговорил Лыков, — и я всякого гостя почетно принимаю.
Он сделал движение, желая хлопнуть в ладоши.
— Не зови слуг, — остановил его Басманов, — мы на дому у тебя пить на станем. Мы пришли звать тебя в Балчуг.
— В Балчуг? — повторил Лыков и отшатнулся. — Я в Балчуге вовеки не был, да и быть не собираюсь.
Балчуг был кабаком за Москвой-рекой, устроенным царем Иваном для потехи своих опричников.
— Аль брезгуешь?
Глаза Басманова вспыхнули.
— А то тебе ведомо, что, отъезжая, надо старых товарищей угостить, попотчевать? Перед дорогою надо бы потешить и холопов…
— Не брезгую я, князь Афанасий, — молвил Лыков, — а недосуг мне, да и пить я не привычен. Не обессудь, сделай милость: возьми с меня, сколько надо, пусть за меня в Балчуге потешатся опричники, а меня уволь. Тебе же спасибо, что царю за меня слово замолвил, — сказал он просто и распустил мошну, вытаскивая оттуда деньги.
Через несколько минут опричники уже выезжали из ворот Лыковского дома.
Далеко по Москве-реке из Балчуга неслись буйные крики, и песни, и гул, и хохот. В раскрытые двери виднелись шитые кафтаны нарядных царских приспешников. Звенели чарки, а возле, на зеленом лужке, паслись кони в богатой сбруе; вокруг них на земле расположились полупьяные холопы опричников, пили мед, закусывали соленой рыбой и бранились.
Князь Вяземский с Басмановым, смеясь, вошли в полутемный кабак и, не снимая шапок, уселись на лавку. Вяземский небрежно бросил золото на стол, липкий от пролитого вина и меда, и крикнул громко:
— Здорово, братия честная! Бьет челом вам Афонька; пришел с казною, да и вы раскошеливайтесь! Станем играть в кости да шашки, пока не зазвонят к вечерне!
Отовсюду отозвались пьяные голоса:
— Келарь! Келарь![22]
— За здравие отца-келаря!
— Да будь по-твоему, отче честной.
— Звони в золотые колокола, начинай обедню!
Распоясанные фигуры поднимались из-за столов.
— Пахомыч, дурацкая твоя рожа, нешто не видишь, отец-келарь пришел, а с ним Федорушка, красна девушка Федорушка, по прозванью Басмановна! Выкатывай бочку вина!
Люди неистовствовали, колотили кулаками по столам так, что посуда звенела и падала на пол, а мед, расплескавшись, лился ручьями; они неистовствовали, кощунственно называя по новому монашескому уставу царской придворной жизни Вяземского келарем.
— Ванька Лыков бил челом честной братии перед дорогою, просил помянуть его грешную душу и казну прислал… пей, братия, поминай раба Божьего Ивана!
Кабатчик ходил между столами, наполняя опустевшие кубки. Многие из опричников, захмелев, валялись на оплеванном скользком полу, пачкая в лужах пролитого вина нарядные кафтаны; другие тянули хриплыми фальшивыми голосами:
Дон-дон-дон,
Отец Спиридон!
Помилуй Серегу,
За его берегу!
Упокой Степана,
Упокой чурбана!
Дон-дон-дон!
Кубки изображали колокола; выходила дикая, но красивая мелодия перезвона; уныло под этот перезвон звучал мрачный напев Вяземского:
— Со святыми упокой!
— Степана! Степана! — подхватывали с диким гиканьем опричники.
Мрачный кабатчик молча наполнял стаканы.
Среди этого дикого похмелья один только человек оставался безучастным. Лица его не было видно; он лежал ничком на столе и не шевелился.
— Гляди, Васюк, — крикнул Вяземский, — брат-то твой запечалился с чего? Не пьет, не ест…
От стола отделилась громадная фигура с черной всклокоченной головою, орлиным носом и густыми, нависшими над глазами бровями. Было что-то дикое, что-то зловещее в этом лице, было что-то могучее во всей фигуре с распоясанным кафтаном. Он засмеялся, и смех его напоминал рычание дикого зверя.
— Аль ты, Михайло Темрюкович, кручинишься по Гришке Грязном? спросил Басманов.
Брат царицы Михайло, или Мамстрюк Темрюкович, князь Черкасский, опять раскатился громким хохотом.
— Проигрался мне дочиста. Кроме кафтана ничего не осталось, да и тот не горазд! — сказал он. — Вот и закручинился.
— Не кручинься, Гриша, — крикнул Вяземский, — запишись в опричнину станешь богаче князя. А пока ступай к нам пить.
Григорий Грязной не шевелился.
— Да ну, ты, крючок, пером немного настрочишь. А батюшка нам с тобой невеликую рухлядишку да казну оставил! — шутливо отозвался Василий Грязной. — Аль и пить с нами брезгуешь?
Его наглое лицо со вздернутым носом улыбалось. Он давно уже уговаривал служившего в приказе брата записаться в опричники, но тот не соглашался.
— Не тебе ли, Федорушка, он под пару? Может, поп, как крестил вас обоих, так спутал: девку мальцом назвал!
— Эва! Погляди, каково Федор вино хлещет!
— Погоди, Гриша, не кручинься, — сказал вдруг Вяземский, — хочешь, я тебе денег дам? Может, отыграешься?
Голова Григория поднялась от стола. Тусклый свет, проникавший сквозь затянутое пузырем окно, озарил молодое лицо с припухшими веками красивых карих глаз.
— А коли проиграю? — медленно, лениво вымолвил он.
— Ну и пропадут наши денежки!
Григорий потянулся и встал.
— Давай, — коротко сказал он и протянул руку. Глаза его вспыхнули, и лицо сделалось красивым и осмысленным.
— Давай, — повторил он нетерпеливо и другою рукою опрокинул в горло чарку.
— Экий скорый! — засмеялся Вяземский и кинул на руку Грязного два золотых.
Григорий весь дрожал мелкой дрожью нетерпения и бросил сквозь зубы:
— Садись, князь!
Мамстрюк лениво подошел к столу и кинул кости. Опричники с любопытством следили за игрой и спорили:
— Отыграется!
— Пропал, Гриша, пропал!
— А, так ему и надо, не наш — земский!
— А может, и нашим будет!
— Валяй, Гриша, по всем трем!
— Что, отыгрался?
— Эх, миляга, не везет ему; плохо бабушка ворожит!
Кабатчик разменял золотые Грязного на мелочь. Стучали кости о стол, звенели деньги, и кучка мелких монет возле Григория все таяла.
Он хрипло кричал:
— Отыграюсь, князь, отыграюсь! Кидай кости! Сколько?
Не спускал Григорий жадных глаз с рук Мамстрюка, и лицо его стало смертельно бледным. Наконец, исчезла последняя монета, а с нею и последняя надежда отыграться.
Григорий вскочил. Карие глаза его бегали; рот кривился жалкой, растерянной улыбкой, грудь высоко поднималась, а губы все еще повторяли:
— Я отыграюсь… Я отыграюсь…
— Ау, брат! — засмеялся Мамстрюк. — Близок локоть, да не укусишь! Чем отыграться-то вздумал?
Григорий обернулся к брату.
— Брат Вася, выручи!
— Выручал! — нагло захохотал Василий. — Тебя из Балчуга не вытянешь! Да и нету у меня денег: давеча последние прогулял!
Он говорил правду: веселый, шальной, не скупился на грубые потехи и швырял деньгами, оттого у него всегда был пустой карман.
— У Васюка искать денег все равно, что на Москве правды, — засмеялись опричники.