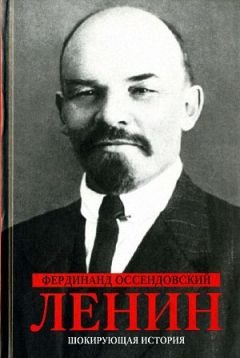— Опять конституанта? — вырвался вопрос у Ленина. — Какой-то проклятый день, в котором все забивают себе головы этой проблемой!
— Конституанта — это высшее проявление душевных порывов, сердца и мудрости народа! — прошептал раввин, поднимая палец. — Если не верите тысяче избранников. Соберите на широких просторах два миллиона российских граждан и их волю. Горе вам, если тридцать человек будет управлять миллионами! У семитских народов есть поговорка, которая гласит: «даже если ты лучше всех ездишь верхом, не пытайся сесть на голову своего скакуна!»
Ленин молчал, превратившись в слух.
Раввин говорил дальше:
— Духовный совет располагает точными сведениями, что комиссары, среди которых много наших сородичей, участвуют в заговоре против конституанты, а некоторые из них, как Володарский, то есть Мойша Голдштейн, Гузман и Мойша Рамомысльский, скрывающийся под вымышленной фамилией Урицкий, превратившись в палачей, без суда самым жестоким образом убивают врагов непризнанного пока Совета народных комиссаров. Мы не можем с этим смириться!
— А почему вам мешает то, что евреи уничтожают тех, кто устраивал погромы, или тех, кто со временем мог бы их повторить? — спросил, подняв плечи, Ленин.
Раввин пересказал его слова на иврите. Цадики кивали головами и смотрели круглыми, птичьими глазами. Старший из них произнес что-то тихим, едва слышным голосом. Раввин с уважением поклонился и повторил его слова по-русски:
— Старый мудрый цадик сказал: «Беда нам, беда! Ибо неразумные действия и бесправие наших сородичей вызовут бедствие, о которых мы не читали в хрониках еврейского народа».
— Вы уже разговаривали с Троцким и остальными? — спросил Ленин.
— В данный момент наши люди предъявляют им наши требования… — ответил раввин.
— Что ж? — сказал Ленин. — Если они согласятся и уйдут, ваши требования будут… исполнены.
Раввин кивнул головой и прошептал:
— Они являются отщепенцами избранного народа, они отошли от нашей веры и не признают наших законов; они не согласятся! Умоляем тебя, чтобы ты согласился отторгнуть их от себя! Твое дело — русское. Пускай русские поступают, как им подсказывает совесть!
Ленин сорвался со стула и гневно крикнул:
— Каким правом вы вмешиваетесь в дела Совнаркома?!
Остыв, он посмотрел на странных гостей. Они сидели неподвижно, прямо, смотрели круглыми слезившимися глазами в каемках воспаленных век. После долгого молчания старый цадик произнес несколько слов. Раввин немедленно перевел, глядя на Ленина:
— Мудрый цадик сказал: «Если наше требование не будет учтено, туча повиснет над вами, а из тучи может пойти живительный дождь или… ударить смертельная молния».
— Мои милые старцы! — насмешливо ответил Ленин. — Можете «умолять», доказывать, жаждать, но требовать и угрожать — не смейте! Это привилегия пролетариата! Слышите? Теперь можете идти! Наш разговор закончен…
Он повернулся к ним спиной и молчал. В нем все кипело. Рука тянулась к электрическому звонку.
Распорядиться, чтобы Халайнен вывел этих «священников» несуществующего Иеговы, поставить под стенку и выпустить по ним из Кольта две пачки патронов. Однако сделать это он не осмелился. Не потому, что боялся их персонально. Он и не такое проделывал, но не захотел. Кто же мог заменить евреев в партии? Аристократы и буржуазия — естественные враги пролетариата? Никогда! Крестьяне? Эти только до поры до времени являются союзниками, но могут превратиться в самых страшных противников. Нет! Невежественный, болтливый российский рабочий? Он хорош только в качестве пушечного мяса для разбивания голов безоружным буржуям и интеллигентам, для разрушения достижений цивилизации. Русские — нетерпеливые, непредсказуемые, непоследовательные, сомневающиеся, метающиеся между аскетизмом и анархией, не могут заменить евреев, переполненных ненавистью, зато сознательно или наследственно связанные инстинктом «роя». Таково было убеждение Ленина. Поэтому он не нажал кнопку электрического звонка и терпеливо ждал, пока за последним израильским цадиком не закрылись двери. Он прошелся по комнате, сжимая холодные пальцы. Долго думал он над словами цадиков и решил ничего о своем разговоре с ними товарищам-евреям не говорить.
— Они подозрительны и бдительны… — рассуждал Ленин. Могут подумать, что в глубине моей души таится зародыш антисемитизма…
Он еще долго не мог успокоиться. Ему казалось, что он еще слышит мягкий шелест атласных шуб и тихое сопение вздохов старцев. На него отовсюду остро и пытливо смотрели птичьи глаза в красной каемке уставших век, белели седые бороды и серебристые витки ниспадавших на плечи локонов. Шелестело едва слышное эхо спокойной, уверенной в своей силе и значении угрозы: «Из тучи может пойти живительный дождь или… ударить смертельная молния…»
— Откуда он должен ударить? Когда? В кого? — спрашивал себя Ленин.
В коридоре за дверями щелкнула винтовка постового. Ленин тихо рассмеялся.
— Попробуйте! — шепнул он и сильно сжал кулак.
В Киеве в доме раввината проходило тайное собрание израильских представителей. Здание синагоги и прилегающие к ней строения бдительно охранялись молодыми евреями, стоявшими на углах улиц и в ближайшем дворе. В зале совещаний за круглым столом сидели серьезные сосредоточенные и встревоженные раввины и цадики в ритуальных одеждах. Посланники общин стояли в глубоком молчании, толпясь и глядя на старейшин неподвижным взглядом.
Поднялся старый, поддерживаемый под локти цадик и сказал: Пророк Исаия говорил: «Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные! Оставили Господа, презрели Святаго Израилева, — повернулись назад».
Он сел, тряся седой головой и тяжело дыша.
Встал молодой приезжий раввин и, обратившись к собравшимся, сказал: Судьи и приверженцы закона Моисеева! Вы поручили мне изучить поглубже важное дело. Я сделал это и бросаю обвинение на головы скрывающихся под чужими фамилиями злобных сынов Израиля. Я установил, что чинят они бесправие и ходят в крови. Это преступление перед Господом, потому что из-за них прольется кровь израильская! Это преступление перед нашим народом! Русские и другие народы, видя евреев среди безжалостных убийц, начинают пылать к нам ненавистью. Прольется кровь избранного народа, погибнут виновные и невиновные сыны его, женщины, детки! Обратились мы к злобным, погрязшим в бесправии сынам, чтобы их образумить, но они повернулись спиной к Господу. Не склонили ушей к просьбам и советам священников Его. Сердца их остались глухи к пророчеству Исаии, говорящему: «Земля ваша опустошена; города ваши сожжены огнем; поля ваши в ваших глазах съедают другие; все опустело, как после разорения чужими». Поэтому я обвиняю неверных большим обвинением, согласно Мишне и Тосефту и тексту Маккоты, ибо «сотрет злюк и грешников вместе, а тех, кто ставил Господа, уничтожит». Обвиняю и требую покарать их смертью, ибо Моисей дал нам право: «Кто ударит человека, а тот умрет, смертью карать надо»!
Раввины снова подняли старого цадика, а тот потряс рукой и сказал:
— Повторяю за Иезекиилем слова Иеговы: «Ведь и Я буду делать в запале: не ослабеет око мое, не смилуется, а когда в уши мои будут кричать голосом великим, не услышу их!»
— Аминь! — сказали раввины и цадики, склонив головы.
— Аминь! — вздохнула толпа.
Служащие синагоги поставили на стол урну. Все присутствующие окружили ее. Раввин обвинитель читал фамилии, а дрожавший столетний цадик доставал из урны карточки. В зале воцарилась тишина. Раввин выкрикивал:
— Соломон Шур!
Цадик отвечал:
— Белая карточка.
— Моисей Розенбух!
— Белая…
Это длилось долго. Объявлялись все новые фамилии, после этого отзывался слабый голос старца:
— Белая…
Наконец, когда раввин прочитал:
— Дора Фрумкин…
Цадик поднял карточку над головой и торжественно сказал:
— Черная!..
Голосование длилось почти до полуночи. Черные карточки исполнителей смертного приговора достались Доре Фрумкин, Канегиссеру, Фанни Каплан, Янкелю Кульману, Мойше Эстеру и еще пятерым членам общин, которые предоставили синедриону фамилии добровольцев, готовых уничтожить преступников, которые стягивали на весь еврейский народ ненависть и месть христианского мира.
Зал постепенно опустел. Только цадики оставались в ней долго, кивая головами, вздыхая и что-то друг другу шепча.
В эту ночь был вынесен тайный приговор. Никто не знал о нем, потому что община, как пчелиный рой, умела действовать согласованно, молчать и скрывать свои намерения.
Одновременно уже в другом месте было решено о смерти ненавистных народных комиссаров, которые распоясывались все больше.