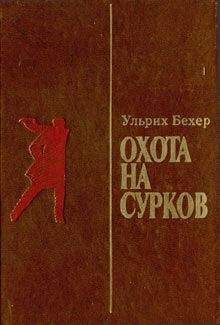Я сказал Милли, что родился в Моравии; несколько чешских слов сблизили нас… Какой потертый плюшевый диванчик в этой гондоле! В отличие от своего дружка Карла Гомзы я не любил слишком скоропалительных интрижек. («Мигом, мигом», — сказал бы дед Куят, о существовании которого я тогда еще и не подозревал.) Мне казалось, с одной стороны, что в мужчинах, занимавшихся любовью вечером на скамейках в парке или на лестницах, было что-то птичье; с другой стороны, я считал, что из-за моего пульсирующего, в то время еще чрезвычайно яркого, розового шрама, меня могли заподозрить в слабости, а этого нельзя было допустить. Под открытым небом, на такой высоте, я должен был оказаться на высоте, зарекомендовать себя эдаким бессовестным Казановой-воздухоплавателем. Из скольких юбок, собственно, состоял национальный костюм в Иглау? Няня пропищала, что она не хочет ребенка, я заверил ее, что на этот счет не надо беспокоиться, я буду осторожен; тогда она зашептала: это, мол, безумие, но все же здорово, впечатление такое, что ты аккурат на небе со святыми, да-а, но мне надо во имя всех святых соблюдать осторожность; я сказал: бояться не следует, а она в ответ: господи помилуй, а вдруг колесо двинется опять и пойдет вниз? На это я в ответ: Милли, гарантирую, что мы еще целых восемь минут будем висеть между небом и землей, над Веной. И тут она заверещала: ах, Вена, ах, Альфонсичек, нет, Альбертнчек, будь осторожен, будь осторожен; внизу в это время во всю мочь дудел оркестрион, из других гондол раздавались пенье, смех, свистки — настоящая какофония. Наконец, господин «инженер» Пейцодер оглушительно возвестил через рупор:
— Глубокоуважаемые господа… незначительная поломка… уже устранена… Желаю приятной поездки, прошу вас!
«Гигантское колесо» сыграло роль дома свиданий, куда приходят на четверть часика.
Но вот однажды Карл Гомза подцепил в центральной аллее двух хорватских прачек лет восемнадцати; ходят слухи, что у хорваток почти нет того, что в переизбытке имеется у девиц из Иглау, а именно нижних юбок; говорят, что хорватки не носят под платьем ничего, кроме собственного теплого молодого тела; несмотря на это, я не испытывал вожделения к юным прачкам. Возможно, мне мешала «сифилисобоязнь»(подхваченная еще в те дни, когда я был вольноопределяющимся); тем более что завербованные Карлом кадры не вызывали такого доверия, как девицы из Иглау. Одним словом, я бросил на произвол судьбы в Пратере соблазнителя женских сердец Гомзу с двумя «хомутами на шее»; сие определение я сообщил Карлу, когда мы с ним опять встретились, и он громко хохотал. А перед этим развлекался втроем в остановившейся с помощью Пейцодера гондоле «гигантского колеса». Я же покинул площадь с балаганами, взобрался на насыпь, возвышавшуюся над своего рода свалкой, куда свозили все пратерские отходы. За насыпью расстилались еще по-летнему зеленые луга; оглянувшись назад, я увидел пратерские балаганы, а немного поодаль — серолиловые доходные дома, над крышами которых полыхала западная часть небосклона; медленно расстававшаяся с этим ветреным днем — дул сирокко, — она полыхала таким зловещим пламенем, словно то был отблеск невиданных пожаров; памятник Тегеттхоффу, свидетелю заката блистательной монархии, казался отсюда составной частью увеселительного парка, одним из аттракционов наподобие карусели Калафати или балагана с самой высокой женщиной в мире. Сейчас этот аттракцион — пратерский адмирал — стоял столь же неподвижно, как «гигантское колесо», но «гигантское колесо» остановилось не в результате трюков господина Пейцодера, не из-за того, что Карл устроил «хорватскую оргию» в верхней гондоле (время еще не подошло), просто-напросто в пору ужина в Пратере на полчаса замирала вся жизнь. Толпа между балаганами поредела, колесо с гондолами, «русские горы» и карусель пустовали, даже оркестрион прервал на время свою бесконечную музыкальную канитель (не звучали ни вальсы Ланнера[295], ни вальсы Штрауса).
И только одна фигура двигалась не переставая…
Передо мной был форт Иностранного легиона, который представлял собой часть «туннеля ужасов», так сказать один из его аксессуаров. И вот этот аксессуар (с задней голой стороны, не предназначенной для публики, не так уж тщательно отделанной) венчался плоской крышей. А на крыше судорожно двигался, ходил взад и вперед (по рельсам) часовой. Заводная кукла была обряжена в форму легионера, в светло-голубую фуражку Légion étrangère[296] и в бурнус, как на гогеновском спаги Фариде Гогамеле (с оригиналом этой картины я еще не был знаком в то время), только бурнус заводной куклы был не белый, а темно-красный.
Если бы я подошел к входу «нового туннеля ужасов» со стороны главной площади Пратера, я бы никогда в жизни не заметил «часового». Своим зрячим глазом я увидел робота как раз в ту секунду, когда он, добравшись до конца рельсов и взмахнув красной накидкой (ей-богу, совсем как живой), повернул назад — при этом корпус куклы неестественно накренился, словно заводной механизм заело, но потом робот опять выпрямился и двинулся дальше по направлению к адмиралу Тегеттхоффу.
Дойдя до противоположного конца рельсов, робот в форме солдата Иностранного легиона, опять сделал полный поворот и, элегантно взмахнув бурнусом, пошатнулся… но тут же как ни в чем не бывало, подрагивая, двинулся прямо в ту сторону, где находился я.
ТО БЫЛА СМЕРТЬ В ФОРМЕ СОЛДАТА ИНОСТРАННОГО ЛЕГИОНА.
Может быть, скелет купили в больнице для бедняков. Может быть, это был скелет одного из тех раненых — их были миллионы, — который сдох уже после войны от войны. Теперь он в яркой форме стража передвигался над пустыней, его тщательно очищенные от плоти кости соединили пружинками, снабдили шарикоподшипниками, электрическими проводами; и получился исправно работающий механизм.
Венский ветреный день — дул сирокко, день ранней осени, подходил к концу, минуты бежали, а я как завороженный, не отрываясь, хотя и с отвращением, смотрел на смерть в форме легионера; смотрел, как она, подрагивая, двигалась взад и вперед по рельсам на фоне огненно-пламенеющего заката. И пока я смотрел, у меня вдруг забрезжила мысль о том, что война, с которой я пришел, все еще продолжается.
КНИГА ПЯТАЯ
Дорога через Сан-Джан
Человек и собаки стояли неподвижно перед крутым спуском из «Акла-Сильвы» — между гаражом и садовыми воротами, фонарь над которыми уже не горел. Млечный Путь светил так ярко и ясно, что от коренастого мужчины и двух огромных псов, застывших у него по бокам, падала прозрачная тень, расширявшаяся, казалось, в конце дороги.
Подойдя ближе, я узнал Бонжура, державшего на двойном поводке дрессированных датских догов — догов этих тен Бройка завел, чтобы охранять спаги Гогена; один был серо-розовый, другой — черный с желтыми пятнами (так сказать, цветов императорско-королевского флага). Звездная иллюминация оказалась достаточно светлой, чтобы различить окраску собак, а также оливковый цвет ливреи слуги (определение «слуга» как нельзя лучше подходило к Бонжуру, одновременно служившему садовником, лакеем и шофером у Йоопа). Я сказал:
— Bon soir, monsieur Bonjour[297].
Поколебавшись секунду, Бонжур тоже поздоровался, после чего поза громадных догов стала чуть-чуть менее напряженной. На мой вопрос, почему он не пошел на «гулянье», Бонжур ответил на своем français-fédéral[298] уроженца кантона Во, впрочем, с явной неохотой. Дескать, мсье уехал и поручил ему охранять дом и мадам. Прежде всего, спаги, подумал я и спросил, но слышал ли он, что случилось в трактире «Мельница на Инне и Милан»? Бонжур ответил, что не слышал, ответил односложно, с демонстративным безразличием. Мое предположение о том, что Йооп настроил Бонжура против меня, подтверждалось; вероятно, Йооп даже дал ему инструкцию по возможности не пускать меня в «Акла-Сильву». Таким образом, Бонжура по Удастся уговорить поехать в Понтрезину… В эту минуту в Санкт-Морице как раз пробило полночь… Почти темный загородный дом в псевдошотландском стиле был как бы облит сиянием Млечного Пути, что придавало ему призрачность, столь ценимую в англосаксонских и романских странах; только три окна на втором этаже были освещены; благодаря светло-голубым занавескам свет, лившийся из окон, казался особенно интимным.
— По-о-ла!
Пятнистые доги издали звук, напоминавший глухой раскат грома.
Я отступил на два шага.
— Мадам тен Броойха, Брооойха, Броооойха… Уделите мне, пожалуйста, минут десять!.. Я хочу вам кое-что сооб-щить.
Первым откликнулся Сирио щенячьи-звонким лаем, для моих ушей лай прозвучал удивительно отрадно, а потом кто-то отодвинул занавеску и в проеме открытого окна появился изящный торс Полы. Неужели она в черном? — подумал я со страхом. Неужели по радио в последних известиях сообщили о гибели Джаксы в Дахау, и Пола сразу же — на нее это похоже — облачилась в траур?..