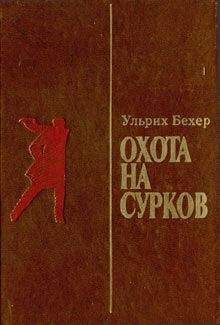— Мадам тен Броойха, Брооойха, Броооойха… Уделите мне, пожалуйста, минут десять!.. Я хочу вам кое-что сооб-щить.
Первым откликнулся Сирио щенячьи-звонким лаем, для моих ушей лай прозвучал удивительно отрадно, а потом кто-то отодвинул занавеску и в проеме открытого окна появился изящный торс Полы. Неужели она в черном? — подумал я со страхом. Неужели по радио в последних известиях сообщили о гибели Джаксы в Дахау, и Пола сразу же — на нее это похоже — облачилась в траур?..
— Да, Трее-бла! Во имя всех святых, что ты делаешь здесь в полночь?
— Тысяча извинений! Случилась ужасная история!
Может, она крикнет сейчас, что все знает? Слышала страшную весть по радио, узнала о жуткой гибели Джаксы в Дахау… Скажет: «Какой ужас… трудно представить себе…» и так далее. А ЕСЛИ ВСЕ ИЗВЕСТНО ПОЛАРИ, ТО, СТАЛО БЫТЬ, ОБ ЭТОМ УЗНАЛА И КСАНА.
— Что-о-о случилось?! Когда?! Где?!
— Три четверти часа назад в трактире «Мельница на Инне и Милан».
— Бонжур!
— Oui, madame?
— Amenez monsieur au salon!
— Parfaitement![299]
Спустив с поводка догов в сад, расположенный террасами, Бонжур повел меня в каминную. Физиономия слуги красноречиво говорила о том, насколько лживым было его «Parfaitement».
— Bon soir, monsieur Farid Gaugamela[300].
Бонжур с удивлением спросил:
— Что?
— Ничего особенного. Я сказал: добрый вечер, спаги мсье Гогена.
Физиономия Бонжура тут же помрачнела еще больше, видимо, он счел, что я над ним подтруниваю. В холле затрещал внутренний телефон, Бонжур, не спеша, но широко ступая, вышел, а потом вошел опять, на сей раз еле волоча ноги, и сказал с упреком, цедя слова так заносчиво, будто это не он взахлеб рекламировал монпарнасский бордель «Сфинкс».
— Мадам велела разжечь камин и подать вам виски с содовой. Avec de la glace?[301]
— Со льдом? В данный момент я сам ледышка. Не принесете ли вы мне чашку черного кофе и рюмку арманьяка?
— Parfait, — глухо сказал Бонжур ясно продемонстрировав, что мой заказ кажется ему чем угодно, только не «parfait».
С явной неохотой он опустился на колени перед английским камином. И пока он стоял на коленях и раздувал огонь оправленными в золото мехами, теми самыми, с помощью которых (по словам Йоопа) триста лет назад растапливали каюту адмирала Михела Адриансоона де Руйтера[302], я думал, что Бонжур похож на жреца, совершающего торжественный обряд перед алтарем божества. А божеством был спаги Фарид Гогамела, который благодаря бдительности двух на славу выдрессированных датских догов опять получил возможность висеть, вернее, сидеть над сводом горящего камелька. Я давно замечал, что жрец, исполняющий свои обязанности, и его божество часто совершенно не связаны друг с другом, существуют каждый сам по себе — так было и на сей раз: жрец совершал свой церемониал, а божество безучастно смотрело куда-то вдаль…
Вдруг сверху раздался похожий на щебет, взволнованнорадостный лай. Юный спаниель пулей вылетел через открытую раздвижную дверь — его висячие уши развевались; наверно, спаниель узнал меня по голосу. Песик перекувыркнулся сперва на бухарской ковровой дорожке, потом еще раз на гигантском ковре с драконами (по словам Йоопа, ковер был выткан в XVI веке в Китае при династии Мин) и начал прыгать на меня, словно темно-синий шелковистый шарик, это занятие было прервано, впрочем, приступом блаженного чиханья. Бонжур прикрикнул на спаниеля, но я разъяснил, что выходки собаки мне ничуть не в тягость, наоборот, они способствуют моему dégel — размораживанию. Бонжур весьма недовольно ретировался. За сим последовал выход Полари.
Он показался мне чрезвычайно примечательным, потому что Полари старалась продемонстрировать полное отсутствие «игры», столь свойственной ей утрированной театральности. Хозяйка дома была одета в домашний брючный костюм из темнокрасного, почти черного эпонжа (или какой-то похожей ткани); за исключением брошки на левой стороне груди, на костюме не было никаких украшений, ни дать ни взять простой тренировочный костюм. Полари выглядела в нем необычайно скромной и особенно изящной, что еще подчеркивали ее рыжие от хны волосы, взбитые и слегка растрепанные; видимо, она хотела показать, что но сочла нужным хотя бы слегка пригладить их щеткой. Отсутствие make-up[303] также наводило на мысль о нарочитости. Пола не стала скрывать веснушки по бокам маленького острого носика и складочки около губ, намазанных бледно-розовой помадой, это-то и заставило меня заподозрить, что она потратила не меньше четверти часа, чтобы выглядеть так, как выглядит девушка из народа, которая собирается лечь в постель. Золотые сандалии, смахивавшие на котурны, были единственной роскошью, какую она себе позволила. Словом, Пола мобилизовала весь свой недюжинный талант для того, чтобы ее выход не походил на выход; на сей раз она играла женщину, которая не играет, возможно, однако, что я был пристрастен и она на самом деле не играла.
В эту минуту Бонжур в белых нитяных перчатках вкатил в комнату сервировочный столик! На нем была маленькая ма-шина-«эснрессо», соответствующие кофейные чашечки, пузатые коньячные рюмки и похожая на теннисную ракетку трехсполовинойлитровая бутылка арманьяка.
— Bonjour, le sucre[304], — сказала Полари.
Тот факт, что Бонжур забыл подать сахар, отнюдь не улучшил его настроения. Когда он принес требуемое, Пола отпустила его спать, а я не успел ничего возразить, ибо после разразившегося вчера днем скандала между мной и Йоопом мне уже неудобно было просить взаймы «крейслер»; в глубине души я надеялся на Полу — она могла приказать шоферу отвезти меня домой.
— Что случилось в трактире «Мельница на Инне и Милан», Треблик?
— Мммм… Ваш поставщик дров, этот Ленц Цбраджен, с которым я благодаря тебе познакомился у Пьяцагалли…
— Солдат-Друг? Красавец? Моя пассия?!
— Да, твоя пассия… — Я коротко рассказал ей о трагическом происшествии, из-за которого раньше времени закончился праздник в «Мельнице на Инне».
— На него это похоже.
— И это все, что ты имеешь сказать?
— Хочешь, чтобы я забилась в истерике? Начала кататься по этому ковру эпохи Мин? Если человек столько лет играл на сцене, переживал напоказ, наступает час… полуночный час, когда пропадает охота переживать, — на сей раз она не говорила на своем утрированно простонародном венском диалекте, которым любила при случае щегольнуть. — Переживать напоказ! Даже в тех случаях, когда узнаешь о катастрофах. Вообще люди здесь, в горах, порой такие!
— Какие «такие»?
— Вот именно: та-кие. Такие, что на народном гулянье стреляются или прямым ходом въезжают в озеро… на «фиате», иногда на велосипеде. Человек, живущий здесь долго, привыкает к тому, что местные жители делают глупости.
— Глупости? Странный эвфемизм.
— Знаешь, все дело в высоте над уровнем моря. В воздухе. В горном воздухе.
— Кажется, я недавно уже слышал это объяснение.
— À la lonque[305] человек накачивается этой глупой силой.
— Я слышал похожие слова здесь, в горах, много раз.
— Но не от меня. Когда ты крикнул во дворе, что случилось несчастье, я в первую секунду почувствовала безумное любопытство. Нет. Внушила себе. Внушила себе, что испытываю любопытство. На самом деле это был только предлог. Для меня самой и для Бонжура. Предлог, чтобы исполнить свое желание. Поболтать с тобой полчасика здесь наверху. А сейчас? Сейчас я не хочу ничего слышать об этой истории.
— Большое спасибо, Пола, за твою старую, ммм…
— Мою старую?..
— Твою старую дружбу.
— Не очень-то благодари свою старую Полу.
Я опустился в кресло «чиппендейль» между сервировочным столиком на колесиках и шахматным столом в стиле восточно-азиатского рококо, за которым произошел вчера мой разрыв с тен Бройкой. Сирио, так сказать, приличия ради перебрался вразвалку к Полари. А она, погасив верхний свет, удобно устроилась на необычайно красивой асимметричной кушетке в стиле рекамье, подняв колени и прислонившись к одному из боковых подлокотников, к тому, что повыше. Теперь Пола была освещена только сбоку, светом бра. С левой стороны от нее застыли расставленные в ряд большие яванские куклы-марионетки в причудливо изломанных позах; справа тянулась пронизанная светом витрина с этрусскими вазами и миниатюрами; в тот вечер Пола была без наклеенных ресниц, она всего лишь нанесла на веки грим bleu lavande чуть-чуть голубовато-лиловой краски цвета лепестков лаванды, оттенявшей ее неподдельно выразительные большие еврейские глаза; и вдруг Пола всплакнула. Нет. Это не были актерские слезы. Голубовато-лиловая краска потекла по щекам, прочерчивая на них тонкие бороздки. Правда, Пола сразу же спохватилась, вытащила из кармана платиновую коробочку с гримом, привела в порядок свой make up, который, собственно, не был make-up, привела в порядок с помощью батистового носового платочка, поплевав на него, можно сказать, в стиле «тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить». Она сделала так, повинуясь атавистическому инстинкту, мысленно вернувшись к дням своей ранней юности, когда была субреткой, жила в предместье, исполняла в Пратере песенки и именовалась «соловьем из Хернальса»[306] (если бы ее прозвали тогда «соловьем с Таборштрассе» — улицы, где ютилась беднота, это бы больше соответствовало действительности, но не годилось для сцены). Мне чрезвычайно понравилось, что Пола вернулась к прошлому, понравилось, что графиня Пола Оршчелска-Абендшперг тен Бройка вдруг опять почувствовала себя Паулиной Поппер. Совсем иначе отнесся к метаморфозе хозяйки Сирио; видимо, человеческие слезы были ему не по нутру, он отошел от Полы и перебазировался к моей ноге.