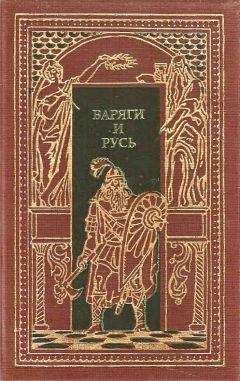— Да вот послушай, — сказал Якун, озираясь вокруг. — Было однажды, при Ольге-княгине, в праздник Купалы, вещий владыка пошел на воду — мыть божича; жрецы несли мыло, да холсты узорчатые, да елей на умащение. Людям киевским в сей день поставили столы на берегу на пир великий. Вещий моет божича мыльнею в Днепре, но, чудо, глядит, а на волнах лежит девица красная и спит. Владыка уронил божича в воду и не ведает, что творит. Берет он девицу на руки, а сам трусит, кабы народ не узрел ее снежную грудь. «Подайте, — говорит, — покров поволочитый»; ему подали, и кутает он ее, а сам дрожит, что твоя осина; и несет ее владыка во храм, а жрецы идут за ним да песню поют величальную божичу:
Грядите во славу-д-мыльницы божьи,
Черпайте-д-златом волны морские,
Свету свет велий боже наш!
А вещий меж тем несет свою ношу, и пот градом с чела выступает, и не велит владыка никому во храм входить, кроме причета, да велит всем прочь идти. И положил владыка девицу на золотую подушку, да как распахнул ризу…
— Ну, что ж, что распахнул? — спросил юноша, заинтересовавшись рассказом.
— А она, прекрасная, распрекрасная, словно голь гола, проснулась: очи — ровно звезды, лицо — словно жар горит, грудь колышется точно волны, а русая коса — ниже пят рассыпалась, и сама такая «ласная», что твой пух лебединый!.. Вещий распалился — так и бьет его грозница; и накинулся он на нее, как коршун на голубку, а она хвать его за седую гриву да на выю верхом: вези, говорит, в широкий Днепр, и начала она хлестать его длинною косою по спине. Заносился владыка вокруг стояла святого, а бежать вон не смеет: стыдно народа, стоящего у храма и ждущего, пока владыка впустит целовать божича… А меж тем с Днепра прилетела тьмущая стая сорок, с хвостами в три пяди — это, вишь, вещий украл их сестру молодшую и осели они храм да трескочут. «Знать, не добро творит вещий», — молвил народ, да и начал в храм ломиться. В та поры у била отрок сидел и видел, как мечется вещий вокруг стояла, а пот с него ручьем валит. «Быть беде, — думает отрок, — заездит красавица владыку», и прыг к ней да за хвост, а хвост-то и остался у него в руках. Вскрикнула девица и покатилась по полу, а отрок за нею… Схватил он ее поперек тела белого, да скорей в волоковое окно, да в терем с нею и был таков. Отворили жрецы храм, а владыка лежит на полу бездыханный, меж тем девица красная в терему живет и ждет не дождется своего желанного отрока. А в та поры княжил Святослав Игоревич. Увидев красну девицу, влюбился в нее, и заныло его сердечко, огнем разожгло… И слюбился князь с нею, да потом поспорил, как звать будущего сына. Родился сын, которого колдунья с Лысой горы схватила, да в лес… Не ты ли будешь ее сыном?..
— Не знаю, дедушка, не знаю… Э, да не этот ли терем, дедушка Якун! — крикнул юноша, увидев Предиславино.
— Он и есть… Ну, смотри, сударик, чтобы красная девица не обуздала твое сердце молодецкое.
И они подошли к воротам, но те были заперты.
— Полезай, детина, на дубок да прыгни за ворота, и там ты увидишь красну девицу, но, смотри, не тронь: завещано от князя пагубой.
Но юноша не слушал Якуна и, схватившись за сук дубовый, очутился на дворе, где гуляли красные девицы. Увидев добра молодца, они разбежались по теремам, а сторожившие их дружинники доставили отрока к князю.
— Ну, коли умел попасть на потешный двор, то умей и служить мне, — сказал князь, радуясь удали отрока. — Кто ты?
— Не знаю, — отвечал отрок, вскинув на князя свои соколиные глаза.
— Как звать?
— Не знаю.
— Ну, будь по-твоему, а звать тебя станем Руславом.
Таким образом, Руслав поступил к князю на службу в качестве оруженосца: все ему казалось ново и любопытно. Глаза его разбегались по красным девушкам, встречавшим князя у главного терема; но он трусил и оглядывался, нет ли где дедушки Якуна.
Встреченный сонмом красавиц и Вышатою, Владимир вошел во дворец и направился прежде всего на половину терема Рогнеды, отличавшегося от прочих светлиц своей величиной и богатством. Один взгляд на бледное лицо дочери Рогвольда привел в трепет князя и, пробыв недолго в ее светлице, он отправился в терем Марии, которая хоть и приняла его ласково, но была далека беззаветно отдаться ему, прежде чем он не потребовал того; теперь-то он вспомнил, когда и где видел ее, и сердце его радостно затрепетало.
— Так это ты та касаточка, которую я видел в Новгороде в волоковом окне в храме Волоса!
Мария потупилась и зарделась, как маков цвет.
— Милая, дорогая моя ласточка, светик мой золотой, — заговорил Владимир, прижимая ее к своей груди. — Ты моя дорогая, ты моя желанная.
— Я твоя раба, — возразила она, — но в тот же час была я женой твоего брата Ярополка, и коль ты не брезгаешь мною, то вся жизнь моя в твоей власти. Я полюбила тебя, князь, тогда, когда ты еще не был князем новгородским, и люблю теперь, великого князя киевского… Но я христианка и поэтому, прости, государь, что осмелюсь напомнить тебе завет твоей бабушки, княгини Ольги…
— Довольно, не сегодня… После, после, дорогая моя, желанная, горлинка! — шептал он, осыпая ее поцелуями.
В то время, когда Владимир находился в светлице Марии, Рогнеда заливалась горькими слезами. Она не могла даже слышать имени князя, но должна была покоряться судьбе, тем более что она готовилась стать матерью. Владимир не настаивал на поддержании отношений и после неудачной попытки в этот день приблизить ее к себе оставил ее без всякого внимания. Приехав в Предиславино, он тешился без меры. Будучи бражником, любя пиры и забавы, Владимир пировал со своими дружинниками в Предиславине, ездил на охоту и предавался разгулу. Дружина Владимира не отставала от него: всюду царили веселье и бражничество.
В один из дней пребывания Владимира в Предиславине в избу, предназначенную для стражи, вошел княжеский отрок Руслав. Накануне этого дня Руслав уехал повидаться с дедушкой Якуном, но не застал его дома. Со дня поступления его к князю один из воинов смотрел на него, словно припоминая что-то. Воина этого звали Веремид. Почувствовав к нему расположение, юноша сделал его поверенным своих мыслей.
Когда он вошел в сторожевую избу, все с радостью встретили его.
— Ну, боярин, — сказал Веремид, широкоплечий и рослый детина с веселым лицом. — Я заждался тебя: думал, что лютые звери али русалки подхватили в лесу.
— От зверей у меня есть лук и стрелы, — весело отвечал юноша, — а от русалок я залепил себе уши воском.
— Это разумно, — сказал Веремид. — Ну, что ж, нашел своего пестуна?
— Нет, не застал дома, и его отсутствие беспокоит меня.
— Почему?..
— Да я прождал целую ночь, а его все не было.
— За него нечего бояться, не первый раз он уходит в лес…
— Но я скучаю по нем.
— Полно, по нем ли скучает твое сердце, боярин!.. Чай, красна девушка приглянулась на Почайновском холме. Смотри, быть бычку на веревочке…
Слова Веремида смутили юношу; ему вспомнилось, как он однажды рассказывал Веремиду, что видел девицу на холме Аскольдовом, близ Почайны, и думал, что то была днепровская русалка.
— Вздор молвишь, Веремид, — отвечал он, — ты вот лучше скажи, почему вы все называете меня боярином и никто не скажет мне, кто был мой отец? Я уж спрашивал у Якуна, а он все смеется да говорит, что у меня был только дедушка Омут да бабушка-ведьма.
— Я давно знаю Якуна, — отвечал Веремид, — и хоть он скрытен, но все делает к добру.
— Может быть, может быть; но зачем вы меня зовете боярином?
— Так уж, видно, на роду твоем написано. А кроме того, ведь ты теперь княжеский отрок…
В это время в сторожевую вошел Извой и поздоровался с Руславом и остальными. Он был задумчив.
— Что, соколик, печалишься? — спросил у него Веремид.
— Веселиться нечему, — отвечал он. — Вот уж третью неделю, как тешится князь..
— Ну, и что ж, что тешится?.. Его княжеское дело тешиться… О чем же тужить?
— Негоже так тешиться… князю Владимиру. Я знаю, что потом он будет раскаиваться да скучать. Всему своя мера. Киевские люди тяготятся его отсутствием.
— Не твое дело, Извой; на то его княжеская воля. А вот тебе, соколик, не мешало бы проветриться на Витичевом кургане: чай, тебя там ждут не дождутся, все глазыньки проплакали, ожидаючи.
Извой взглянул на Веремида.
— Почем ты знаешь, что там ждут меня? — спросил он.
— Э, парень! — расхохотался Веремид, — знать, правду сказала колдунья Яруха.
— Что она сказала?
— Что болит твое сердечко по Светланушке; приворожила она молодца.
Извой побледнел.
— Неправда, откуда ей знать?
— На то она и колдунья… Да и я смыслю кое-что в этом. Ведь ты знаешь, что я умею угадывать счастье или горе по полету птицы, по крови и по воде. Всему этому меня научила Яруха, когда я ходил к ней проведывать о своей судьбе.