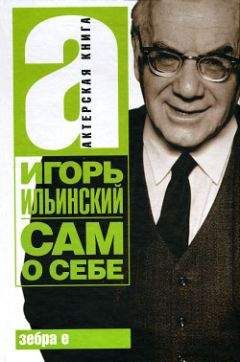русскому, забитому да темному – ибо малодушно боимся его и в его же мерзости находим себе оправдание…»
Тут покачнулся отец Иннокентий, замолчал и рукой показал Еремею: уходи, мол. Скоро уходи, пока солдаты самого в карантин не замели. Вдруг попадется кто не из нашенских да малограмотный – никакая бумага не спасет. Бешено смотрел Еремей в никуда, не двигался. Словно опять напала на него горячка, даже злее прежнего. Особо болело потому, что сказал отец Иннокентий те слова, что он сам нашел умом собственным, но так вслух и не выговорил. Еще раз повел священник по воздуху одной лишь ладонью. Уперся взглядом в переносицу духовного сына своего безотрывно. Как прекословить?! Повернулся Еремей, сам не свой, шаг сделал, другой, и услышал: «Не плачь, Еремеюшка, не плачь, Господь милостив. А тебе – тебе навечно будет мое благословение, – закашлялся отец Иннокентий и успел добавить, – беги теперь, быстро беги, не оглядывайся».
«…С удивлением читала я прошение Ваше. Ежели какие предусмотренные Комиссией меры не приносят пока должного успеха, то это можно отнести только на счет неточного исполнения инструкций или прямого, а потому преступного нежелания им следовать. Приказываю продолжить и в ближайшие дни закончить устройство круговой охраны города и по-прежнему отправлять всех больных и заразных в карантин, впрочем, не разделяя семьи, дабы не причинять им еще большей горести. Не в обращении с народом нужна строгость, а в исполнении мер, могущих остановить мор. Поэтому выражаю согласие с мнением господ докторов и сенаторов – объявите как можно шире, что те, кто немедля сообщит о заразе в своем хозяйстве, может выбрать, отправляться ли в карантин или оставаться дома под охраною, как просите, до шестнадцати дней…
На Волю Господню уповаю – не может такого быть, чтобы Он оставил Первопрестольную своей милостью. Блюдите, сколь можно, меры гигиенические и ждите от зимы помощи в избавлении – доктора в один голос утверждают, что болезнетворные миазмы боятся холодов и непременно должны быть ими изгнаны».
Медленно подъехал к заставе обоз, самым ранним утром, когда сон еще крепок, а ноги уже согрелись. Не выйдет из караульной будки лишний человек, незачем. Не хоронился хозяйский сын, чтобы чего не подумали, но и не шумел излишне. Понимал Егор Крашенинников, что здесь потребна осторожность и умная ласка. Получится – дальше легче будет. Было, было у него в запасе письмо разрешительное, но знал он: сегодня твоя грамота – самая верная, а завтра – что ни на есть филькина.
Не было видно никого у шлагбаума, а все равно так просто не проедешь. Встали. И сразу задвигался кто-то в караульной будке. Спал капитан Арканников, крепко спал. Были у него под началом солдаты свеженабранные, необученные и необстрелянные, но состоял при взводе и кое-кто из старослужащих. Проверять путников ночных полагалось самым младшим, дабы не смели остальных без особого дела не тревожить. Вышел на дорогу совсем юный солдатик, а с ним еще один. Оба неграмотные, но видят: государственная бумага у купца. Но а все же был наказ: не пускать никого с большим грузом без проверки, пуще того из Москвы. «Откуда идете?» – спросили на всякий случай. Неопределенно махнул Егор – дескать, недалече, почти местные. Или наоборот – так далеко, что не углядишь, не расскажешь. Нет, все-таки надо будить ефрейтора, он грамоте знает.
Разбудили, вышел недовольный. Егор к нему с пониманием, вежливо. Тот в себя пришел, огляделся, посмотрел на Егора, просыпаясь понемногу, на телеги, пригляделся малость, махнул рукой – подождите чуток, и давай обратно в караулку по какой-то надобности. Всего минуту оставалось капитану Арканникову спать, самое большее – две. Да, подумал Егор, за начальством пошел, кажись, не обойтись теперь без царской грамоты. В хвосте обоза Махмет стоял – для надежного пригляду, да и вообще… Так и должно быть: хозяин впереди, а хозяйский пес сзади.
Немедленно собрать совет, пусть обдумают хорошенько и напишут ответ в Москву: и от своего и от моего имени. Никакого промедления – каждый день сейчас на вес золота. Все меры должны быть объявлены и приняты к неукоснительному исполнению. Позавчера прискакал гонец из Твери. Там на заставе произошло чрезвычайное происшествие. Судя по всему, из Москвы в сторону Петербурга направлялся целый обоз с сукнами, очень может быть содержавшими заразные миазмы. Когда же командир заставы приказал его арестовать и отправить в карантин вместе с возницами, то те оказали сопротивление и солдаты были вынуждены применить оружие. Слава Богу, удалось задержать все телеги до одной, после чего начальствующий офицер на свой страх и риск приказал сукна немедленно сжечь. Я распорядилась выдать ему денежное награждение. А сегодня – еще хуже: пишут, что есть случаи на псковском тракте, уже совсем недалеко от Новгорода, где-то в окрестностях Старой Руссы.
…Австрийцы-то каковы – враль на врале, в Шенбрунне других министров не ставят. Доносят верно, что сдались, милые, готовы присоединиться к конвенции. Недолго держались, индюки, на то и расчет был. Правильно когда-то сказал король про императрицу, что она всегда льет слезы, но не упустит ни малейшего случая заграбастать как свое, так и чужое. Сначала нас обмануть пытались, теперь вот Турка прокатили, как только мы им пообещали отрезать хорошенький кусок от польских владений. Не смешно ли, а, господа? О, Европа, ты сама не знаешь, насколько же ты прогнила!
А что они мне теперь тычут – дескать, Фридрих, Фридрих. Там – славная победа, так почему здесь такой ремиз? Сейчас кажется: не лучше бы тогда помереть было, не выигрывать никакой баталии или чтобы победа случилась, но с ней и смертельная рана, так что не дожил бы до сего дня горестного. Ибо коли Господь хочет наказать, то насылает на нас не безумие, а бессилие. Что сделать здесь можно, что? – спрашиваю. Они, конечно, заладили балаболками: миазмы, грязь, сукна, карантины, известь, похоронные команды, мертвецов не касаться, гробы забивать гвоздями немедля… И что? Ну, слушаем их, больше некого. И делаем… И молимся… Только хуже, с каждым днем хуже и отчаянней – дальше некуда.
Народ разбегается, а те, кому некуда лыжи вострить, все больше шалеют. Один за другим идут рапорты: здесь на врача накинулись – дескать, отравой людей поит, тут наряд с трудом от какой-то шайки отбился, когда дом в Лефортове проверять начал, а вчера и вовсе смертоубийство случилось: нашли на Неглинной несколько погребов со старыми тряпками. И это – когда я уже сколько месяцев назад торговлю ношеным платьем строжайше запретил, и не сам, а с ее величества высочайшего соизволения.