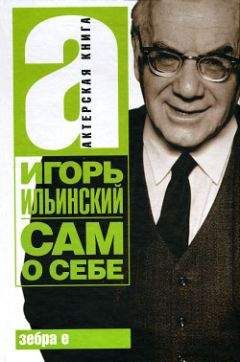кое-где нападают даже на полицейских, видел я два, нет, три рапорта. И мертвых до единого осматривать и сертификацию выносить – тоже людей не хватает, ведь сотни три трупов в день собирают, не менее.
…Говорят, у господина сенатора Собакина сразу несколько слуг преставилось. Я его с позавчерашнего дня не видел. Послал, сказывают, верноподданнейшее прошение о полной отставке напарник мой. Генерал-поручик тоже месяца два назад просился уволить, да как-то передумал. Письмо, наверно ему было, с обещаниями наивеликими. Вот он и внял, молодец какой. Но на всех-то даров казенных не напасешься. А если не передумает нежный наш сенатор, ох, нежный? Это, значит, что – мне вместо него заступать? Ну и пожалуйста: если Господь порешил прибрать мою бедную душеньку, то и приберет. Лучше только побыстрее, чтобы не очень мучиться.
95. Вестники катаклизма (почерк опять устанавливается)
Я сбивался с ног. Спал урывками, где приходилось, не раз ловил себя на том, что дремлю стоя, и не как лошадь, а словно загнанный олень, бессильный и изможденный. Власти и врачи почти ни за чем не успевали, хотя я больше не видел рядом со мной ни ленивых, ни нерешительных. Но мы раз за разом опаздывали и слишком часто занимались только сожжением домов и оприходованием трупов. Лечить – нет, уже не лечили, даже не пытались, и сами уже не верили в то, что делали, не понимая, что, зачем и почему. И о медицинском долге тоже забыли – будь, что будет. Одна полиция, на удивление, продолжала исполнять свои обязанности, да нещадно гонял гарнизонных солдат и составленные из преступников похоронные команды неутомимый Еропкин. Дважды я видел его самого, скачущего через город во весь опор, один раз он промчался так близко, что обдал меня грязью, и я успел рассмотреть его горящее лицо и бешено-сосредоточенный взгляд. Вдруг мелькнуло: «А не сошел ли он с ума?»
Развешивали по городу распоряжения властей, трубили глашатаи на площади. Горели зараженные постройки, продолжали полниться карантины. Большая работа шла, пусть часто и не видимая глазу. С радостью я узнал о том, что местный епископ запретил священникам отпевать покойников, их нужно было хоронить как можно скорее и без каких-либо церемоний. Особенно в карантинах, ведь заключенные там считали, что брошены на погибель и каждая новая смерть укрепляла их в этом мнении. Ничего не могло переубедить несчастных: тех, кого на их глазах выпустили, они тоже считали погибшими, а освобождение – обманом. Я однажды пытался говорить с ними напрямоту, намеренно отпустив охрану, и тут же об этом пожалел. На меня набросились, как только кто-то крикнул: «Отравитель!» Тут я понял, кем они нас всех считают, тем более если мы говорим с акцентом. Но ведь и правда: чужеземец всегда внушает недоверие простонародью, а больше половины докторов в Москве иностранцы. Впрочем, коллега Полонский, о котором я уже как-то упоминал, в высшей степени достойный доктор из местных, показавший себя во время мора с самой лучшей стороны, признавался мне, что и его эти люди тоже не считают за своего. Точно так же скрываются, обманывают, не просят помощи вплоть до самого конца и считают во всем виноватым.
Я помню, как начал, право, опасаться того, что, помимо натуры человеческой, нам противодействует и сама природа, так сказать, в прямом смысле слова. Шел день за днем, а погода по-прежнему стояла на удивление нездоровая, и я кожей ощущал висевшую над городом болезнетворную сырость. Этого не могли перенести не только люди, но и животные, лучше нас приспособленные к климатическим капризам. Например, я стал чаще видеть на улицах мертвых крыс, одна испустила дух прямо-таки у меня на глазах, посреди подлежавшего сожжению дома в чумной слободе. Известно ведь, что эти создания, всю жизнь проводящие в темноте погребов и подвалов, перед смертью обязательно стремятся выйти на открытое место. Нечего и говорить, крысы – существа малоприятные, но видя их столь сильно пораженными, я как истинный натуралист не мог не испытывать некоторого беспокойства. Ведь если повсеместные страдания охватили даже ловких грызунов, причиной чего наверняка были насытившие почву миазмы, то каково же должно прийтись москвичам, особенно самого простого состояния, условия жизни которых были не слишком отличны от крысиных и в чьих домах обычно столовались эти остромордые обжоры.
Бросился Еремей опять в притвор – нет нигде отца Иннокентия. Туда-сюда глянул, в ризницу заскочил, даже в пономарню дернулся – тоже нет. Ах, опять ушел в слободу, зачем же? И только заподозрил неладное, выскочил на улицу – отлегло от сердца: идет от поворота фигура знакомая, долговязая. Радостно заторопился навстречу, но мгновение-другое спустя пригляделся: медленно двигался отец Иннокентий, а вот и вовсе оперся о забор, зашатался, присел… Подбежал Еремей, но тут выпрямился старый священник, махнул рукой грозно: не подходи! Застыл Еремей, сумел выжать из себя: «Что с вами, святой отец?» – а сам уже знает ответ, но слышать его не хочет.
«Дурно мне, Еремеюшка, – отвечает благочинный родным голосом, только чуть ослабевшим, – дурно. Стой где стоишь, ближе не надо». Видать, изменился Еремей в лице: «Нет! – снова повторил Иннокентий, – нет, не надо, пустое это дело, не поможешь ты мне, только себя сгубишь. Знаю, была уже у тебя зараза, а все ж не надо. Даже если и вправду она второй раз не пристает и убережет тебя Господь, а как ты ее на себе дальше понесешь и кому другому передашь? Грех это будет». И опять посмотрел на Еремея, и ответил на вопрос безмолвный: «В карантин пойду. Куда все, туда и я. Недалеко ведь, доберусь. Если что, передохну по дороге, нынче ж не холодно. Мы столько раз людей туда провожали, объясняли, что иначе нельзя, обещали, что там им лучше будет, значит, теперь мой черед. Послужу напоследок примером, раз уж по-другому не смог. Да не бойся, пятен на мне еще нет, может, и пронесет, все мы под Богом ходим».
И встал, повернулся напоследок: «А ты иди к архиерею, в Чудов, он сейчас чуть не главный в городе, расскажи там все, что видел. Пусть помолятся за меня… Прав, прав был его преосвященство, когда запретил отпевать покойников: господь-то и без нас грешников от праведников отличить может… Только губим людей зря. Доктора говорят – жечь, значит, надо жечь. Жечь, коптить, до черноты, до углей. Все видит Господь Бог. Потому и наслал эту заразу, страшно грешны мы перед ним, Еремушка, страшно. И больше всего в том виновны, что терпим мы жизнь нашу, не способны ее изменить, пособить народцу