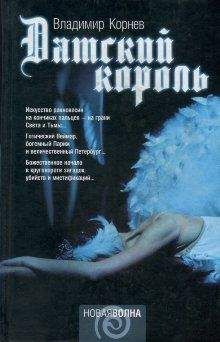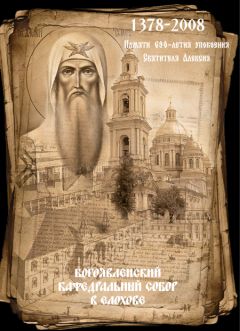— Не велено, Herr Maler! Порядок превыше всего, я за всю жизнь порядка не нарушил. Кто-нибудь узнает, мне же в городе прохода не будет! А хозяйка уволит сразу — она строгая, не потерпит своеволия.
Тогда Звонцов не преминул сыграть на чувстве гордости европейца:
— Послушайте, вы же свободный человек в цивилизованной Германии! Разве за долгие годы не заслужили право насладиться кружечкой-другой доброго портера? Вот деньги — отдохнете до утра в пивной. Иначе, дружище, я просто работать не смогу из-за вашего храпа! А фрау беру на себя — она ничего не узнает о вашем отсутствии «на посту».
Столь «серьезные» аргументы подействовали убедительно. В мастерской Вячеславу Меркурьевичу оставалось только дотерпеть до того часа, когда город отойдет ко сну, а тогда, под покровом ночи, можно было бы приступить к самым важным делам. Незадачливый «живописец» уселся напротив мольберта, сложил на груди руки и равнодушно уставился на свой еще не просохший синюшный подмалевок. Дрема незаметно овладела им, пока наконец не перешла в глубокий, тяжелый сон. Видения были как наяву. Сначала Звонцов оказался свидетелем какой-то безобразной кабацкой драки напившихся крестьян, напомнившей ему сюжеты малых голландцев. На переднем плане корчился старик, которому только что сломали пивной кружкой нос. Внешность у старика была живописная, фактурная и будто откуда-то знакомая ваятелю. Вдруг появились еще люди, не то костоправы, не то коновалы, и стали изуродованный нос выправлять, вытягивать под душераздирающие вопли самого пострадавшего. Тут Звонцов отчетливо вспомнил, откуда знает этого несчастного старичка: «Да он же позировал на занятиях у Ауэрбаха! Ну конечно, он! Я тогда еще нарисовал ему нормальный нос, мы не сошлись с профессором во взглядах на искусство, и он забраковал мой рисунок. С кем-то он теперь спорит об эстетике? Да ни с кем, и вообще осталась от этого «титана мысли» лишь жалкая горсточка пепла в урне!» Первое видение сменилось другим, не менее нелепым. На этот раз ваятель увидел племянника своей покровительницы. Эрих стоял за студенческой конторкой и нещадно колотил себя по лбу толстенным томом, сопровождая это самоистязание горькими упреками по поводу собственной тупости и бесталанности. Сначала скульптора это просто потешило, а потом и вовсе озадачило: лоб самокритичного немца покрывался шишками от ударов, пока прямо на глазах не распух до таких размеров, каким рисовальщик изобразил его на портрете! После спящий Звонцов оказался во флейшхауэровском особняке, куда даже мысленно уже не собирался возвращаться. Он стоял в своей комнате, там, где делал углем первые портретные наброски: на водосточной трубе под потолком, белая как мел, висела… Марта! Она была в костюме Евы, и только черный шелковый чулок змеей обвился вокруг ее неестественно длинной шеи. Вячеслав Меркурьевич немедленно кинулся к висевшему телу: «Если ей уже ничем не поможешь, то, по крайней мере, труп из петли выну!» Однако Марта вдруг протестующее замахала руками и, улыбаясь, пояснила сдавленным голосом:
— Не стоит беспокоиться, Вячеслав! Это своеобразная гимнастика — я проделываю ее каждое утро, и, как видите, помогает. Шею я уже прилично вытянула, и цвет кожи теперь такой, что любая стильная дама мне позавидует… А разве в вас не просыпается страстное желание?
Звонцов растерянно прошептал первое, что вертелось на языке:
— Но ведь это же должно быть очень больно…
— Пустяки! — просипела портретируемая, поболтав в воздухе полными ножками. — Большое искусство требует жертв.
Тут-то Вячеслав Меркурьевич наконец пробудился. «Когда же меня оставят эти бредовые сновидения? Лучше, чтобы совсем ничего не снилось!» — подумал он, приходя в себя. Свечи догорели, воск разлился по всему столику с рабочими принадлежностями. В мастерской царил полумрак, и было непонятно, сколько прошло времени. Сердце у Звонцова заколотилось: вдруг ему уже не успеть сделать задуманное? Не собираясь включать электрический свет, он бросился к окну. В отсвете уличного фонаря он различил время на своих часах: час ночи, как раз пора было приступать к действиям. В соседнем здании — библиотеке — он долго не задержался. Уверенно владеющий кувалдой и зубилом, парой точных ударов ваятель отделил бронзовое навершие от урны, даже не повредив последнюю. Скульптуру он аккуратно положил в один мешок с инструментом и через несколько минут был уже на прежнем месте, в мастерской. Процедура «освобождения» валькирии с Фарфоровского погоста прошла как по нотам, не заняв и получаса. Столь удачное начало придало Звонцову сил и вдохновения. Бесшумным кошачьим шагом теперь он вознесся по пустынной лестнице старого дома и, проникнув в столовую, столь же ловко уже знакомым ему способом проник в «собачий музей», нашел кабинет фрау, уверенно шагнул к письменному столу — верный фонарик всюду помогал сориентироваться.
Тут скульптор заметил свежую газету, с первой страницы которой в глаза ему бросилась странная фотография, и он заглянул в передовицу. Из статьи следовало, что мадам Зюскинд в Америке организовала широкую рекламную кампанию своего сына художника, который расписал ее дом по подобию виллы Мистерий в Помпеях. Звонцов насторожился при упоминании виллы Мистерий: «О ней же недавно говорила Флейшхауэр!» — и принялся на свету внимательно разглядывать фотографию. Она оказалась воспроизведением фрески, представляющей саму мадам в образе римлянки. В то же время Вячеслав Меркурьевич узнал именно ту фреску из «помпеянской» залы особняка немецкой меценатки, которую фрау Флейшхауэр демонстрировала ему на днях, отрицая свое поразительное портретное сходство с изображенной древним живописцем женщиной. На фреске волосы римлянки были черного цвета, и только это отличало ее от Флейшхауэр. «Бог ты мой! Что же получается? Зюскинд и Флейшхауэр — одно лицо?! — бедный Звонцов был настолько поражен, что совсем запутался. — Может, они сестры-близнецы и не могут поделить какое-нибудь родовое наследство? Или просто устроили на публике войну друг против друга, чтобы на этой шумихе и скандалах зарабатывать баснословные деньги?» За первым потрясением тут же последовало другое, не менее сильное — Звонцова точно током ударило: небольшое фото, помещенное в конце статьи, изображало Евграфа Смолокурова! Как было не узнать это лицо!? Кто-то заснял чудовищного князя-купца с кистями в руках работающим над какой-то стенной росписью.
«Но, может быть, я ошибся, и это совсем не он? — подумал скульптор. — Посмотрим, что там значится под фотографией». Он напряг зрение и разобрал пространную подпись: «Мистер Зюскинд за оформлением жилого интерьера виллы. Высшая ответственность для художника, даже для профессора Американской академии и подлинного мастера, исполнить заказ тонкой ценительницы прекрасного, особенно если заказчица — ваша собственная матушка». Звонцов в сердцах крепким русским словцом помянул мать Зюскинда-Смолокурова и самого этого жуткого двуликого типа. «Ну, хватит, — катись эта семейка ко всем чертям! К псам! В конце концов, я совсем не за этим сюда пришел».
Десницынская икона, на счастье, по-прежнему была здесь.
В кабинете своеобычной немецкой фрау на этот раз внимание Вячеслава Меркурьевича привлек поясной мужской портрет на стене напротив входа. Портрет был современной работы, судя по всему, кисти талантливого академиста, и изображал строгого, представительного господина в черном смокинге с мальтийским крестом на шее под высоким воротничком белоснежной манишки. Красивое лицо было выписано особенно тщательно. Вот оно-то и поразило Звонцова необычайным сходством опять же с самим Евграфом Силычем Смолокуровым! Впрочем, гадать было незачем: на раме тускло поблескивала табличка с гравированной готическим шрифтом надписью. Ваятель прищурился и прочитал: Baron Heinrich von Bar (das Autoportrat)[260]. «Так вот он каков, этот таинственный Бэр!»
— Барон Медведь… — задумчиво перевел Вячеслав Меркурьевич и невольно содрогнулся. Сходство с купцом было зловещее. «Настоящий оборотень — Смолокуров, Дольской, Бэр… Сын Зюскинд и Флейшхауэр одновременно… Он и русский купец, и князь, и барон-колбасник, он же, получается, американец — просто многоглавый Змей-Горыныч, какой-то Бриарей![261] Откуда только берутся на свете такие бестии?!» Он поспешил оторвать взгляд от портрета и теперь направился к гардеробу. Стал рыскать по шкафам. В них, как ни странно, оказались мужские вещи.
Сомнения рассеялись. Теперь-то Звонцов был убежден, что здесь живет барон или как там его… «Господи, какой я дурак, что написал ему письмо! Он, наверное, уже в Веймаре!»
Быстро схватив икону, Вячеслав Меркурьевич устремился вниз. На полдороге, не утерпев, развернул Николин образ, посмотрел на лик Угодника, и так же, как в прошлый раз, ему показалось, будто сам Арсений взирает на него, только теперь взор был тяжелый, скорбный — явный упрек застыл в этих глазах то ли друга, то ли святого. Туг Звонцов не на шутку разозлился: «Ах, так! Ну, погоди же. Угодничек!» Войдя в мастерскую, он с каким-то богоборческим остервенением содрал драгоценную ризу с чудотворной, а сам оскверненный образ бросил на пол, в сторону мольберта. Потом взялся за серебряный оклад, силясь выковырнуть циркулем драгоценные камни и жемчуг, но быстро понял, что искусный ювелир вправил их на совесть. Тогда скульптор согнул ризу и обмотал пригодившейся ветошью, однако. вспомнив вдруг разговор с Дольским в бане, спохватился, недоумевая: «Как же так? Он ведь не терпит собак. Почему в его медвежьем логове хранится урна с останками собаки? Наверняка там спрятаны сокровища!» Пришлось лезть обратно, наверх.