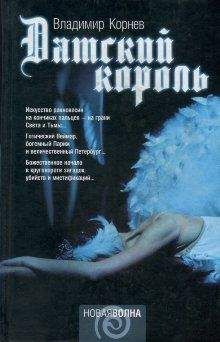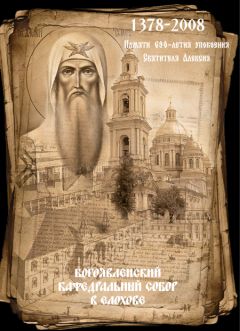Нечеловеческих сил стоило бедному Вячеславу Меркурьевичу захлопнуть Ауэрбахов опус — читать дальше он не мог, да и без того ему уже было ясно самое главное. «Старик профессор слишком много занимался сомнительными изысканиями и доискался — встал этой компании поперек дороги — своей диссертацией он подписал себе смертный приговор. Не зря все же сжигали на кострах такие опусы! Как знать, может, и алхимик Фауст кончил тем же? Такие чудовища, „имеющие волю“, неизвестно еще сколько подлинных талантов загубят! Непременно загубят, если только Копье… Вот именно — если только у них есть само Копье! И почему я сразу поверил в это. даже не подумав хорошенько? От волнения забываешь общеизвестные факты. Святое Копье центуриона Лонгина — собственность Габсбургов и находится в Вене, в музее Гофбурга! Любой желающий может видеть там эту подлинную реликвию династии, а значит, у Смолокурова никакого Копья Центуриона нет, быть не может, и опасения мои беспочвенны. Без главной святыни все их ритуалы не имеют ни силы, ни смысла! К тому же безумец Ауэрбах вполне мог запутаться в ветхом манускрипте, что-нибудь неправильно перевел или даже сам его сочинил в параноидальном бреду — не надо принимать всерьез измышления несчастного психопата. Смолокуров с Флейшхауэр — те поверили бреду сумасшедшего и стали следовать его безумным указаниям. А Смолокуров-то и не знает, что Флейшхауэр хочет сделать К. Д. своего племянника! Лучше всего забыть про этот опус и впредь ничем подобным не забивать себе голову».
Звонцов оторвал взгляд от пола, в мучительной тоске уставился в зеркало: ему показалось, что за последний час он постарел на несколько лет. «Есть и пострашнее вещи — я же своими глазами их видел, упырей этих… Да! Если бы тогда в мастерскую не притащился бы Сенькин братец! Уж они точно к себе утянут — за паршивый кусок бронзы! Страшней всего эти упыри!» Так он сидел какое-то время, пока не решил завтра же подготовить кражу и отъезд, для чего ему необходимо было уже сегодня как можно быстрее завершить рисунок в интерьере. Подгоняемый этой мыслью, Вячеслав Меркурьевич тут же бросился к мольберту и опять взялся за работу. Справился со всем очень быстро — сам не ожидал от себя такой прыти (в другой ситуации тот же самый процесс растянулся бы на несколько дней). После Звонцов поспешил вернуться домой, где и пролежал до самого ужина, набираясь сил, моральных и физических, для последнего отчаянного броска.
Вечером в столовой Флейшхауэр между яблочным штруделем[259] и кофе со сливками сообщила «дорогому Вячеславу» о том, что ящик под книги готов и он может принять работу у столяра в любое время. Тут же она добавила то, что было важно для нее самой:
— Я сегодня выбралась к вам в мастерскую, — это «выбралась» звучало так, будто мастерская находилась где-то далеко и на ее посещение требовалось несколько часов, — и посмотрела, как идет работа. Вы, оказывается, даже интерьер уже закончили — очень похвально! И весь рисунок вышел весьма выразительный. Полагаю, что завтра вы уже возьметесь за кисть — какой смысл делать перерыв в работе? Надеюсь, не устали, Вячеслав?
— Вообще-то я хотел отлучиться в Лейпциг, дорогая фрау, — скульптор вовсе не собирался «браться за кисть» и поэтому предложение заказчицы воспринял безо всякого энтузиазма, — но разве я стану упорствовать, расстраивать столь благодетельную даму, как вы? Свои дела как-нибудь улажу, а подмалевок сделаю завтра же, только вы уж позвольте мне работать и по вечерам? То есть, я имею в виду, что по вечерам я бы писал интерьер, а в утренние часы — портрет.
Фрау такая покладистость художника устраивала вполне.
— Вы сами, друг мой, беретесь в два раза больше работать? Лучшего мне и желать не приходится! Я вам так признательна — приятно иметь дело с человеком, работающим, как говорят в России, не за страх, а за совесть. Если я правильно поняла, завтра вы все подготовите, а через день Эрих с Мартой уже могут продолжать позировать?
— Все верно. И будьте любезны передать им, чтобы послезавтра они были в мастерской к восьми утра.
Звонцов ругал себя и напористую немку: «Переусердствовал с этим фоном на свою голову! И зачем, собственно, было его заканчивать, тогда бы эта старая лиса и не подумала бы меня торопить. А теперь она вздумает проверять, как я делаю подмалевок, так что придется завтра опять работать…».
На следующий день скульптор, злой на всех, почти полдня провозился с непривычным для него подготовительным этапом живописи. И это в то время, когда в голове была только бронзовая валькирия! Работой своей он остался недоволен: лица на подмалевке почему-то получились бледно-розовые, а фон и вовсе лиловый. Тем не менее, зная, что писать все равно больше не придется, Звонцов бросил кисти и, чувствуя себя уже почти свободным, пошел на почтамт выяснять, как можно отправить посылку. Там его поджидал очередной каверзный сюрприз: для этой «церемонии» требовалась подробная опись содержимого посылки, а упаковка должна быть произведена в присутствии почтового чиновника, причем при отправлении за границу эта процедура контролируется особенно строго. Первое условие ушлый ваятель предполагал, и на этот случай у него даже был составлен целый список особо ценных книг, да и второе препятствие он, возможно.
обошел бы при помощи крупной банкноты, поговорив со служителем с глазу на глаз, но только если бы дело было в России, испытывать же честность германских чиновников Вячеслав Меркурьевич счел в его положении шагом чересчур рискованным. Таким образом, вариант с пересылкой статуи по почте никак не проходил. что лишь подтверждало народную мудрость: «Шила в мешке не утаишь». Скульптор мученически вздохнул: «Придется вспоминать, как везли эту истуканшу сюда, выбора нет… Но германскую таможню, чувствую, тоже на мякине не проведешь! Правда, там не Веймар, где эту статую каждая собака узнала бы… Да уж! Когда в государстве всюду образцовый порядок, для неординарной личности сплошное неудобство». Но дальше развивать философию свободного индивидуума было некогда, и Звонцов принялся экспромтом сочинять письмо Смолокурову в Петербург, в котором убеждал «дражайшего Евграфа Силыча», что ждет не дождется его в славном городе Веймаре, где «любезнейшая мадам Флейшхауэр приняла Вашего покорного слугу как нельзя лучше, предоставив кров и стол по старой дружбе, и сама обеспокоена неожиданной Вашей задержкой». Таким посланием ваятель рассчитывал убить сразу двух зайцев: надеясь, что Смолокуров, получив это письмо, немедленно отправится прямиком в Германию и его приезд спутает все планы фрау-меценатки, в то время как сам «покорный слуга» будет спокойно улаживать свои дела в Петербурге.
«Авось перегрызут глотки друг другу!» — уповал Вячеслав Меркурьевич. Дальше он действовал по продуманному заранее плану: прямо с почты направился в библиотеку. Мемориальный лекционный зал был, по традиции, общедоступен и как-то трагически пуст, хотя как раз это и было нужно русскому «читателю». Он смог беспрепятственно открыть знакомое окно, послав напоследок воздушный поцелуй грозной валькирии: дескать, жди меня в ночной час. Теперь он должен был еще заглянуть в москательную лавку. Продавалось там все то же, что и в подобных магазинчиках где-нибудь в Петербурге или Торжке, но запах показался Звонцову менее удушливым и сам продавец был стерильно чист, даже надушен. Скульптор поздоровался, быстро пробежал глазами по полкам в поисках необходимого.
— Прошу прощения, господин, — вмешался немец, — судя по вашему выговору, вы — тот самый русский художник, для которого фрау Флейшхауэр заказала недавно лучший товар? Мы рады предложить вам лучшие краски, олифу, лаки и растворители…
Звонцов от неожиданности чуть не подавился собственным языком: «В этом городе у нее всюду глаза и уши!»
— Нет сударь, вы явно меня с кем-то путаете! Мне нужен керосин, побольше керосина.
Продавец пожал плечами:
— Как вам будет угодно.
Он притащил из кладовой металлический бидон на пару ведер.
— Вот этого будет вполне-е-е достаточно! Беру вместе с бидоном.
— Как вам будет угодно, — покорно повторил продавец.
Вячеслав Меркурьевич чуть ли не бегом, сторонясь встречных, отнес керосин в мастерскую, перевел дух, затем проверил, на месте ли прочный мешок с кувалдой и зубилом: «Ну вот! Теперь вроде бы все готово». Спокойный и сосредоточенный, он мог идти в особняк и дожидаться вечера.
Поужинал Звонцов с особенным аппетитом, молча. Он был совершенно погружен в себя в процессе еды и даже не заметил отсутствия за столом Эриха с Мартой. Только после ужина, уже на лестнице, художник предупредил фрау, что не успел толком приготовить мастерскую к завтрашнему ответственному сеансу позирования и вообще должен еще поработать, так что, скорее всего, задержится там за полночь — пускай в особняке не беспокоятся. Спустившись к себе в комнаты, скульптор с сожалением посмотрел на новенький деревянный контейнер, в котором теперь уже не было никакой надобности: «Хорошо сработал какой-то ганс, да, выходит, зря старался». И грязный холст со следами краски, еще недавно бывший прекрасным пейзажем, ничего, кроме отвращения, у Звонцова вызвать не мог. Он, не теряя времени, собрал небольшой дорожный баул, мысленно навсегда распрощался со своим веймарским приютом и, пристроив под мышкой свой нехитрый скарб, устремился к заветной цели рискованного вояжа. Со сторожем он тоже договорился заблаговременно, чтобы тот, истопив печи, оставил его в доме одного на ночь «д ля работы». Правда, поначалу добросовестный старик-служака заупрямился: