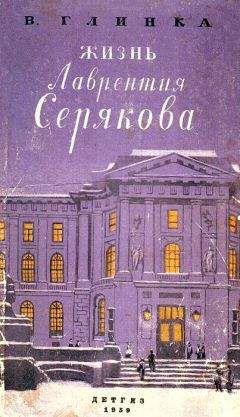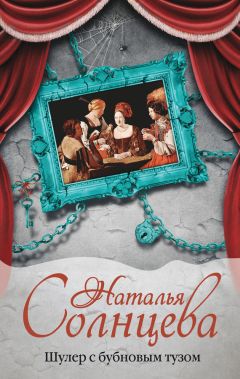— Экой ты скорый! Жди. Обещался, записал для памяти. Через месяц позовут меня опять книги ихние поверять, в другой раз напомню.
Месяц! Легко сказать! У Лаврентия так и чесались руки резать и резать.
Но тут пришли один за другим хорошие заказы на переписку — за страницу по десять копеек, притом спешные, — и думать о «художестве» стало некогда.
Майор из пажеского корпуса дал переписать учебник по фехтованию с приятной добавкой за особую плату — перерисовать двенадцать позиций боя на рапирах из немецкой книжки.
Потом переписывал доклад какого-то чиновника генерал-губернатору о мостовых и освещении Петербурга. Текст был пересыпан цифрами, таблицами. Серяков узнал, что всех фонарей в городе 4300 штук, в какие часы в разное время года их должны зажигать и гасить, что на стекла в них, тряпки для протирания, починку и окраску ежегодно отпускают 25 тысяч рублей, а на горящее в них масло — 161 тысячу.
Это место доклада он прочел матушке, и они вместе посмеялись. Даже она, недавно приехавшая в Петербург, знала, что навряд ли половина этого конопляного масла сгорает в фонарях: значит, другую съедают фонарщики с кашей. Вот и выходит, что съедают они на 80 тысяч в год. И тут же, в следующих строках, говорилось, что фонарщиков-то всего 320 человек, по двое на каждые 25 фонарей, что обязанность их — «рачительно наблюдать, дабы вверенные их попечению фонари ясно горели всю ночь». Значит, сосчитал Лаврентий, на каждого приходится в год масла на 250 рублей. Недаром, говорят, они полицейским будочникам, чтоб пускали переночевать, пока фонари без присмотра гаснут, немалую часть этого масла отдают. Где уж одному столько съесть! Ведь это выходит пудов двести на человека.
Только окончил переписку этого доклада, как полковник Попов рекомендовал его заказчику для первого заработка по топографии. Нужно было вычертить по снятому местным землемером брульону план имения богатого симбирского помещика. Особенно доходно было, что владелец желал украсить план изображением фамильного герба в акварели и золоте, а также развесистым родословным древом, на котором в виде яблок были обозначены все члены семьи за двести лет.
За этими делами незаметно пришла осень. Рассветало все позже, и Лаврентий начинал работать в темноте, чуть ли не ощупью — фонари на улице действительно к утру все гасли.
В октябре на дворе стало известно, что барышня Катенька в селе Рыбацком нашла этим летом свою судьбу — выходит замуж за пожилого помещика. Сам подпоручик с женой увезли приданое в двух сундуках, и Катенькина маменька очень расхваливала соседям жениха — человека со средствами, владельца порядочного имения и кирпичного завода. Это он настоял венчаться в церкви Рыбацкого, на которую постоянно жертвует.
В тот вечер, когда новости дошли до Лаврентия, он загрустил: жаль стало Катеньку, такую светлую и приветливую. Корил себя, что, может, невольно стал виновником ее ссылки и замужества с нелюбимым. Он был уверен, что Катенька не могла полюбить пожилого барина. Верно, от разговоров о заводе, от воображаемых гор красноватого кирпича жених представлялся ему обязательно рыжим, вроде того Геннадия Васильевича, в честь которого когда-то назвали котенка.
В начале ноября выпал снег, потом еще и еще. Сразу накрепко встала зима. Работать от снега стало виднее, но так тяжело, что Лаврентий едва справлялся к нужному времени. Когда прибегал в департамент, руки и спина после лопаты, скребка и лома мучительно ныли. А это было особенно некстати при черчении, где нужны твердость линий и предельная аккуратность. Где мечтать о гравировании, когда вечерами и заказное переписывал-то через силу! После обеда ужасно клонило ко сну, но он садился за работу часов до восьми — девяти, когда валился на постель, как сноп. А в четыре часа матушка едва могла его добудиться.
К тому же с наступлением морозов в их комнате только во время утренней топки и днем бывало тепло — сказывался полуподвальный этаж. Писать приходилось в шинели. Жаль, что матушка распорола на какие-то поделки тот старый, но такой теплый халат.
Потирая коченевшие руки, Серяков уже не раз думал, не пора ли бросать это место — ведь недолго матушке или ему самому простыть и расхвораться. Теперь перепиской и черчением он, пожалуй, заработает на наем комнаты и на дрова.
То же твердил и Антонов, видевший, как похудел и побледнел за один месяц его друг. Верно, он сумел настроить и робкую Марфу Емельяновну, уже не раз заговаривавшую с сыном об уходе от Змеева. Но как угадать вперед? Скоплено у Серякова ничего не было. А тут все-таки сухо и под верной крышей.
Глава VI
Первые заказы. План княжеского имения
Однажды, уже в середине декабря, в чертежную пришел Антонов и, наклонившись к Лаврентию, сказал негромко:
— Сходи завтра к четырем часам в лавку Смирдина, к Крашенинникову. Петр Иванович его зовут. Только не запоздай гляди. Там будет тебя дожидаться сочинитель какой-то, нужно ему картинки резать.
Лавку Смирдина на Невском, в доме Энгельгардта, Серяков знал хорошо. Несколько раз в будние дни, утром, он заходил туда, чтобы взглянуть на великое множество книг, стоящих на полках. Заходил бы, верно, и чаще — там иногда выставлялись на прилавках продажные гравюры и литографии, — да не с руки нижнему чину без дела показываться в самой людной и нарядной части города.
Много хороших книг перечитал или хоть подержал в руках Лаврентий, на титульном листе которых было напечатано маленькими буквами: «Издание Александра Смирдина». Как-то читал в «Северной пчеле» статью, где было рассказано об этом человеке, платившем писателям так щедро, как никто до него не платил, отдавшем свой капитал на издания русских книг. Видал сборник «Новоселье» с заглавной гравюрой, изображавшей обед в честь открытия смирдинской лавки. Сидят Пушкин, Жуковский, Крылов и другие за длинным столом, стоит князь Вяземский с поднятым бокалом — поздравляет Смирдина. Правда, это было лет пятнадцать назад, в другом помещении. Да все равно, и сейчас, должно быть, расходятся отсюда по всей России лучшие книги, здесь бывают известные писатели и художники.
Крашенинников был первым, к кому обратился смущенный Лаврентий с вопросом о нем же. Седой, крупный, серьезный, он выслушал и посмотрел внимательно, потом, приоткрыв дверь за прилавком, ведущую во внутреннее помещение, позвал:
— Господин Студитский! Пожалуйте, к вам пришли. Молодой, опрятно одетый барин тотчас вышел оттуда.
— Вот топограф, что, говорят, гравирует на дереве.
— Очень приятно, — сказал Студитский, дружелюбно улыбаясь. — Зайдите сюда, нам здесь удобнее будет переговорить.
— Кивнув в сторону стоявшего за конторкой пожилого человека, он обратился к Крашенинникову:
— Александр Филиппович позволил им туда войти.
«Наверное, сам Смирдин», — подумал Лаврентий.
Доброе, очень усталое лицо, гусиное перо за бескровным, восковым ухом, как-то покорно-терпеливо слушает барина в дорогой шубе и меховом картузе.
В просторной комнате с тусклыми окнами во двор, как и в лавке, по стенам высились полированные полки с книгами. У круглого стола — несколько кресел, на этажерке — открытый ящик с сигарами, бронзовая чаша-пепельница, стопки журналов. Как бы угадывая мысли Лаврентия, Студитский обвел рукой вокруг:
— Сколько здесь известных людей бывает… Прошлый год видел, тоже в морозный день, сам Виссарион Белинский тут сидел, чаем грелся и с Александром Филипповичем беседовал.
Имя великого критика ничего не сказало Серякову. Он принадлежал к тем простодушным читателям, для которых существуют только повести, рассказы и стихи, а рассуждения о них кажутся выше понимания. Но он не раз видел эту фамилию под статьями, которые пропускал, не читая.
— А вы тоже писатель? — почтительно спросил Лаврентий.
— Ну что вы! — явно сконфузился Студитский. Попросив Лаврентия присесть к столу, он рассказал, что преподает географию в гимназии и в кадетском корпусе, напечатал несколько учебных книг и теперь хочет издать с картинками еще одну, написанную в виде путешествия детей с родителями по Южной Европе. Потом внимательно рассмотрел гравюры, принесенные Серяковым, видимо остался доволен и взял с этажерки красиво переплетенный том с бумажными закладками.
— Вот с чего их сделать нужно, — сказал он. — Издание не мое и очень ценное, французское, но как вас рекомендует Петр Иванович, то я его вам поверю. Гравюры, как видите, сделаны на стали, но это нам не по карману. При небольшом числе экземпляров — я издаю всего тысячу — выдержат и деревянные. Конечно, я понимаю, что в дереве выйдет не так тонко, но что же делать? Мои условия: пятнадцать рисунков по три рубля за штуку, всего сорок пять рублей, больше дать не могу… Подходит ли вам?
Серяков просмотрел заложенные гравюры. Они были различны. Некоторые попроще, как «Сенбернарская собака» — стоит мохнатая, черная над обрывом скалы, с круглой фляжкой на ошейнике. Или «Этна» — гора с седловиной, из нее курится дымок, а внизу — хижина и три фигурки. Но были виды городов — Рима, Венеции, Константинополя, в которых изображались перспективы зданий со множеством деталей. По три рубля за такие картинки, очевидно, слишком дешево. С ними он провозится, пожалуй, по три — четыре дня, если вообще сумеет сделать что-нибудь сносное.