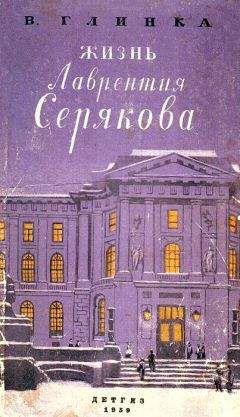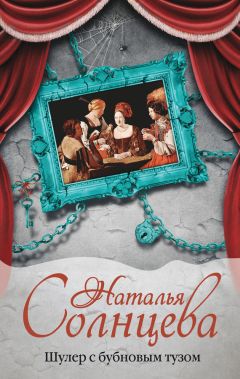Просить Антонова вновь обратиться к Крашенинникову Лаврентий совестился. Ведь и так знает, как тянет его любимое занятие, придется к случаю — сам не забудет.
Как-то старый писарь принес показать номер журнала «Иллюстрация», где был напечатан портрет Крылова и вид кабинета, где он скончался.
— Вот на этом диване, бывало, и басни свои пишет, и кушанье ему человек подносит, и работу мне тут же дает, а перед тем так прочитает в лицах, что навек запомнишь. Видите, Марфа Емельяновна, на портрете каков — толстый…
— А ведь резано-то на дереве, — заметил Серяков, — и надпись иностранная. Неужто все за границу делать отправляют?
— Может статься. У нас всё так: свои мастера без дела сидят, а немцам и французам в пояс кланяемся, — сказал Антонов.
— Вы, Архип Антоныч, коли еще этот журнал где увидите, принесите опять посмотреть, — попросил Серяков.
Он жадно рассматривал картинку за картинкой. Были такие, что ни за что не сделать — с разнообразным и свободным штрихом, видно в совершенстве передававшим портреты, пейзажи. Но большинство — простенькие, эти и он мог бы вырезать.
Через неделю Антонов принес еще два номера «Иллюстрации». В одном понравился Лаврентию ряд портретов, явно карикатурных. На первом был изображен пузатый человечек с хохолком на закинутой назад головке. Идет на высоких каблучках, словно петушок задорный. Подписано: «Музыка». На другом — тоже пузанчик на высоких каблуках, но с более длинными вьющимися волосами над высоким лбом и с красивым профилем, прямо как на греческой статуе. Подпись: «Живопись». Третий рисунок изображал длинного-предлинного барина в клетчатых брюках, на журавлиных ногах, голова гладко облизана, должно быть волосы жидкие, а нос толстый, дулей вниз свесился. Он говорит что-то, протянув вперед руку с выставленным указательным пальцем. Под этим стояло: «Литература».
За пирогом Антонов пояснил со слов чиновника, у которого поверял счетные книги и взял на время эти журналы, что это музыкант Глинка, живописец Брюллов и писатель Кукольник, он же издатель этой самой «Иллюстрации». А рисовал всех художник Степанов, большой мастер подмечать смешное. И что они, те-то трое, очень знаменитые и большие между собой приятели.
Антонов был первым советчиком Марфы Емельяновны по всем покупкам. И, когда они занялись обсуждением какого-то хозяйственного вопроса, Лаврентий опять взялся за журналы.
«Знаменитые! — печально думал он, глядя на карикатурные портреты. — Только для господ они знаменитые. А что я о них знаю? Читал где-то, что Глинка пишет музыку, слышал, как чиновники в департаменте спорили, когда в театре «Руслана и Людмилу» играли, — одни хвалили, другие бранились. А самому вовек не услышать: солдата ведь в театр не пустят. Разве через семь лет… Ну, да бог с ним, с Глинкой этим. Можно мне его и не знать. Брюллов — другое дело! Вот чьи картины хоть бы одним глазком посмотреть! Про «Последний день Помпеи» сколько писано. Литографию как-то у одного заказчика видел, так и от нее глаз не оторвать. Истинно чувствуешь, что последний день пришел — молния, здания падают, люди в ужасе мечутся… А ведь в литографии еще цвета нет. И висит-то сама картина рукой подать — в Академии художеств, на Васильевском. Да не посмотришь: солдата и туда не пустят… Тоже через семь лет, значит?.. Кукольник всех знакомее, читал его не раз. Поначалу, в Пскове, очень нравилось — складно, звучно, такие герои благородные, а злодея сразу узнаешь. Многие кантонисты пьесу «Рука всевышнего отечество спасла» наизусть выучивали. Потом, здесь уже, попадались в журнале рассказы, тоже ничего себе. А в прошлом году взял было какую-то трагедию про итальянцев и дочитать не мог. Слов громких много, кто-то с ума сходит от несчастной любви, духи, черти какие-то ему являются. Да, верно, образования моего мало. Недаром же так знаменит человек».
В апреле Серяков увидел в лавке на Литейном только что вышедшую книгу Студитского и с волнением купил ее. Картинки выглядели совсем недурно. Даже странно было думать, что это его работа. Дома он перелистал книгу не раз вместе с матушкой. Ведь и она знала каждую гравюрку, выучила с его слов, как которая называется.
Два вечера Лаврентий читал вслух матушке, и оба остались довольны, что картинки его помещены в хорошей книжке. Молодец учитель, интересно и понятно написал! Вот такую географию ребенок запомнит: в ней не только названия городов, рек и гор, а еще история страны рассказана. Особенно заняли Лаврентия повествование о помпейских раскопках, от которого стала понятней картина Брюллова, и легенда о Вильгельме Телле с добавлением, как создалась Швейцарская республика, как управляется выборными от кантонов. Это место Лаврентий прочел Антонову, а тот попросил дать ему прочитать всю книжку.
Конечно, Лаврентий дал, хотя немножко жалко было и на неделю расставаться со своими картинками — так он ими гордился. Но и грустил при взгляде на них. Вот и может он резать не хуже тех, что работают для журналов, а что толку?
В середине мая, когда Серяков выходил после работы из департамента, его остановил рослый ливрейный лакей.
— Скажи-ка, служба, — обратился он к Лаврентию, — где б мне тут сыскать топографа? Нашему князю его потребовалось.
— А на что он вашему князю? — спросил Серяков.
— План, видишь ты, вотчины нашей начертить надобно.
— Это можно. Я топограф.
Лакей переменил тон на более уважительный:
— А коли так, то пожалуйте со мной к их сиятельству. Тут недалече, в доме Шлиппенбаха квартируем.
— А как фамилия вашего князя? — осведомился Лаврентий дорогой.
— Князь Одоевский, Владимир Федорович.
— Писатель известный! — воскликнул Серяков.
Он читал «Русские ночи», сказки и особенно хорошо помнил трогательную и печальную повесть «Княжна Зизи».
— Они самые, — кивнул лакей. — Они у нас камергер при дворе и в Публичной библиотеке директор, книги пишут и на музыке играют, даже опыты с огнем разные делают. Однажды едва сами не сгорели. Книг у нас много тысяч стоит, всё читают да читают… Однако барин добрейший.
На углу Бассейной и Литейного они вошли в подъезд. По устланной ковром лестнице поднялись во второй этаж.
Оставив Серякова в прихожей под присмотром сидевшего тут с книжкой мальчика-казачка, ливрейный великан пошел докладывать. Сквозь растворенные двери Лаврентий видел большую комнату в три окна.
Лакей рассказывал правду — ее наполняло такое множество книг, какое он видел только в лавке Смирдина. Закрывая почти целиком стены, они стояли в застекленных шкафах и на открытых полках, лежали на столах, на диване. Даже на полу под окнами высилось несколько стопок. Старинные, светлой свиной кожи переплеты чередовались с новыми, более темными, тисненными золотом, и с простыми бумажными обертками. Тут и там между книгами втиснулись какие-то медные и стеклянные приборы и сосуды. На двух шкафах желтели человеческие черепа. Сквозь приспущенные белые шторы солнце заливало комнату матовым ровным светом.
Но вот из двери, видной в глубине кабинета, показался хозяин. Серяков понял это по тому, как почтительно провожал его ливрейный лакей.
Наружность Одоевского не удивила Лаврентия, особенно после того, что увидел в его комнате. Это был среднего роста сухощавый пожилой человек с добрым и задумчивым выражением лица, одетый в длинный, доверху застегнутый сюртук. Остановившись недалеко от двери в переднюю, он поднял по-детски ясные голубые глаза и, увидев ожидающего солдата, поманил его к себе. Но не начальнически, одним пальцем, а как мать зовет ребенка — движением обеих протянутых вперед ладоней.
— Здравия желаю, ваше сиятельство, — сказал Лаврентий, переступая порог.
— Здравствуйте, мой друг. Вы топограф? — Одоевский взял со стола свернутую трубкой бумагу. — Вот посмотрите, можно ли по этому сделать план.
Серяков развернул лист — это был брульон, выполненный умелой рукой.
— Это мое имение Дроково в Рязанской губернии. Я там много жил в детстве, особенно его люблю. Вот дом, где я рос. Видите? — Одоевский указал обозначенные на плане строения над рекой. — А вот как он выглядит в натуре.
Он подошел к одной из книжных полок и снял с боковой стенки небольшую акварель. Изображен был барский дом на пригорке, перед ним — цветники, а сзади — купы деревьев.
— Не угодно ли будет, чтоб в уголке плана я изобразил этот дом в какой-нибудь растительной виньетке? — предложил Лаврентий.
Ему захотелось украсить лист, который, как он видел, почти сплошь будет занят скучной штриховкой хлебных полей и покосов.
— В самом деле? Это может быть очень своеобразно! — обрадовался Одоевский. — А вы делали уже подобные работы?
«Довольно ли, мол, у тебя умения?» — перевел себе этот вопрос Серяков. Но не смутился — картуши в чертежной были хорошей практикой.